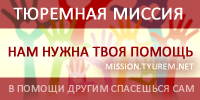Словно назло мне - Москва пахла пеленками, и, кажется, все мужское население катило по бульвару детские коляски. Переженились мои приятели, обзавелись детьми и исчезли. Изредка встретишь кого-нибудь - трусит домой с работы, глаз от земли не поднимет.
- Извини, старик, некогда. Жена, дети, работа... Был человек, и не стало. Осталась производительная человекоединица, так и не научившаяся ходить на двух конечностях, без дополнительной опоры в виде колясочки.
Часть ребят с Маяка, в основном благодаря Юрке Галанскову, все еще собирала сборники стихов. Но и в этом уже не было жизни - отошло время. В воздухе было нечто новое, новые призраки населяли Москву. Всё чаще и чаще начинали поговаривать о реабилитации Сталина, и наши худшие опасения грозили сбыться. Вскоре после отстранения Хрущева пошли слухи о каких-то списках - не то две, не то пять тысяч человек, которых надлежало репрессировать в первую очередь. Указывали прямо на Шелепина как на кандидата в Сталины.
Какие уж там стихи!
Словно танковые колонны, двигались через город вереницы колясочек с младенцами. Их родители надеялись не попасть в те пять тысяч. И черной молнией неслись в Кремль лимузины - уточнять списки.
Отчего ленинградцы всегда заговорщики? Откуда у них эта подпольная психология? В Москве, как в большой гостиной, всегда найдешь, кого хочешь, всегда тут же познакомят - и просить не надо. Постоянно толпится народ в квартирах, галдеж стоит такой, что собственного голоса не слышно. Сидят за полночь по московским кухням и всё спорят, спорят. В Москве можно нагрянуть к знакомому в полночь с большой компанией, и никто не удивится. А если с бутылкой, так и обрадуются. И неизменно к утру спор возвращается к извечной теме - когда же это все началось? В 1914-м? В девятьсот пятом? Или уж с декабристов все пошло вкось? Иные идут еще дальше - возводят хулу на Петра: он-то и есть главный злодей, изнасиловал бедную самобытную Русь, и родила она ублюдка нам на горе.
По крайней мере, одно его злодеяние очевидно - он построил Петербург, город заговоров. С недобрыми мыслями строил - видать, с похмелья, и оттого вечно расползается по городу петербургский туман, отравляет всех страстью к конспирации. Сидят по домам петербуржцы, копят потаенные мысли и всякое знакомство воспринимают как нелегальный союз.
Приезжая в Питер с Московского вокзала ранним летним утром, я бродил по его пустынным ослепительным проспектам, любовался роскошными фасадами. Каждый дом - вельможа, смотрит полупрезрительно, свысока. Но стоит забраться внутрь, в череду сумрачных, сырых дворов-колодцев, и понятно становится - вот она где коренится, потаенная петербургская психология. С ними и говорить-то можно только с глазу на глаз, шепотом, и никогда ни с кем не познакомят: «Что вы, что вы, живу одиноко - связей не поддерживаю...»
«Батенька», мой сокамерник по спецбольнице, с первого взгляда возбуждал подозрение простого советского человека - слишком он был похож на иностранного шпиона из советских кинофильмов. Невысокий, полный, лысый, с настороженным взглядом за толстыми стеклами очков - вылитая копия агента мирового империализма. Даже «школьники на улице останавливались и пристально смотрели ему вслед - не позвать ли милиционера. Моментально вспоминался им кинофильм про то, как бдительные пионеры поймали американского шпиона.
Пробираясь к нему домой по питерским дворам и черным лестницам, я неизменно ловил настороженные взгляды соседей: «Опять к нашему шпиону гости...»
Жил он с двумя древними тетушками и, хоть было ему уже под пятьдесят, не мог избавиться от их постоянной опеки.
- Боренька, ты опять не поел с утра как следует, - говорила одна.
- Надень теплый свитер, сегодня холодно, - вторила другая.
- Ну, тетя, ну, хватит. Это же невозможно, в конце концов, - гнусавил Батенька. - Я вас прошу, перестаньте, хватит.
При всем при том был он отчаянный заговорщик, отсидел уже три раза в спецбольнице и настолько привык к своей двойной жизни, что, кажется, сам с собой конспирировал. Каждый раз, освобождаясь, он неизменно восстанавливался в партии, устраивался на идеологическую работу: писал статьи для партийной прессы, преподавал - словом, «вкрадывался в доверие», «маскировался». Попав как-то со мной в обычную шумную московскую квартиру, он пришел в неописуемый ужас.
- Это завал, - шипел он мне в ухо, - нас всех засекли. Надо уходить немедленно. - И больше не мог я затянуть его в Москву.
Все подробности о списках и о предполагаемой реабилитации Сталина он уже знал из партийных источников и, конечно, не сидел сложа руки. Очередной заговор был у него в полном разгаре. В ленинградском тумане друзей не найдешь, а заговорщиков всегда пожалуйста.
Словно помолодев на двадцать лет, шнырял он по Ленинграду - бесконечные конспиративные встречи, явки, переговоры. - Боренька, надень шапку, сегодня холодно. И не приходи поздно.
- Ну, тетя, хватит, перестаньте же наконец, - гнусавил он, закрывая за собой дверь.
Так же вот, наверно, уходили они в петербургский туман в марте 1881 года, унося аккуратные сверточки. А через час у Летнего сада, там, где карета царя сворачивает вдоль Мойки, точно чугунным кулаком стукнуло по мостовой, сверкнуло пламя, столбом взвилось вверх, заржали раненые казачьи кони... И не важно, что разъяренные дворники били потом по всему городу подозрительных студентов, а новый царь принимал меры к поимке смутьянов - неудержимо начала раскачиваться с этого часа тяжкая колода нашей истории. Гадай теперь, когда началось - в пятом, в четырнадцатом или в семнадцатом... А поколение за поколением, ослепленные этим взрывом, ладили новые и новые бомбы и вновь уходили в петербургский туман.
Это ведь всегда так заманчиво, так просто и оправданно: разве не справедливо отплатить злодеям той же монетой? Ответить на красный террор - белым террором, а на белый - красным. Смотрите, они пытают нас, это звери, а не люди! Почему же нельзя пытать их? Глядите, они открыто воруют у нас - чего же мы ждем? Безнаказанность только поощряет их, развязывает им руки. И раз государство - все равно насилие, то почему ж не насиловать ради справедливости, ради их же спасения?
Что ж, может быть, для них, уходивших с аккуратными сверточками к Летнему саду, это казалось бесспорным. Я же родился в год, когда все человечество, желая того или нет, истребляло себе подобных ради того, какие будут на земле концлагеря - красные или коричневые. Не было у них иного выбора. Похоже было, что выход так до сих пор и не найден - как раз в это время американцы начали бомбить Северный Вьетнам.
Ясно мне было одно - освобождение не приходит к человеку извне. Оно должно прийти изнутри, и пока большинство из нас не освободилось от подпольной психологии, от жажды справедливости, по-прежнему будут сидеть по кухням наши потомки и спорить: когда же все это началось? Точно муравьи на дне кружки.
Сергей Петрович Писарев был совершенной противоположностью Батеньке. Четырнадцатилетним мальчишкой в разгар первой мировой войны сбежал он из дому - воевать за царя и отечество. Поймали его уже на фронте и, чтоб опять не сбежал, эта пировали домой вместе с арестантами. Дорогой, в Ростовской тюрьме, он встретился с арестованными большевиками и с тех пор был коммунистом до мозга костей. Где он только не сидел! В гражданскую - под расстрелом в контрразведке Деникина, в 37-м - в Лефортовской тюрьме, в 53-м - в Ленинградской спецбольнице, и ничто не могло поколебать его коммунистической веры. При всем при том он постоянно воевал со своей пролетарской властью.
В 35-м году, когда арестовали его друга, он добивался его освобождения, писал протесты и даже собирал подписи. Естественно, в 37-м сам оказался «врагом народа». Пытали его жестоко и на дыбе в Лефортове сломали позвоночник - он ничего не подписал.
Со сломанным хребтом бросили его, точно собаку, подыхать на нары Бутырской тюрьмы и забыли там. Целый год он пролежал, не в силах шевелиться, - сокамерники кормили его и носили на оправку. И целый год он писал жалобы, мелко-мелко, на клочках туалетной бумаги. Не о себе - о своем незаконно арестованном товарище. Сокамерники только смеялись:
- Кому пишешь? Дальше надзирателя твои жалобы не идут. Пожалей бумагу, и так не хватает.
А через год, в 1938-м, его вдруг неожиданно вызвали. Куда - неизвестно. С трудом дотащили его надзиратели до кабинета. Помощник Генерального прокурора открыл свою папку и спросил:
- Вы писали? - И тут Писарев увидел все свои клочки, аккуратно подобранные, пронумерованные. - Ваш товарищ, - сказал прокурор, - был действительно честным коммунистом, безвинно арестованным бандой врагов-вредителей, прокравшихся в органы. Теперь они разоблачены и понесут наказание. К сожалению, ваш товарищ не дожил до этого дня - он умер под следствием. Оказалось, за этот год все переменилось: Ежов был расстрелян, а с ним вместе - и его приближенные оказались врагами. Новым начальником НКВД был назначен Берия, и пытки были приостановлены.
Освободившись таким чудесным образом, Писарев тут же потащился в ЦК и стал доказывать, что все, сидевшие с ним в камере Бутырской тюрьмы, ни в чем не повинные люди, оговорившие себя под пытками. И ухитрился многих-таки освободить. Была тогда такая «бериевская оттепель», о которой мало кто помнит.
В войну Писарев был на фронте политкомиссаром. Как уж он ухитрился воевать со своим сломанным позвоночником - уму непостижимо, только доподлинно известно, что вытащил он на себе из окружения одного раненого. А в пятьдесят третьем, в разгар дела «врачей-вредителей», он подал докладную записку Сталину, где утверждал, что это дело сфальсифицировано, а аппарат МГБ - «лжив сверху донизу». Видимо, его дерзость так поразила Сталина, что Писарева тут же загнали в Ленинградскую психбольницу. Но и там сидя, он писал свои бесконечные жалобы, тайком передавая их на свиданиях. После смерти Сталина добился Писарев не только полной реабилитации, но и опровержения диагноза. Более того, пользуясь своими связями в ЦК, он добился назначения специальной комиссии, которая обследовала Институт Сербского, Ленинградскую и Казанскую спецпсихбольницы и установила, что в них содержится много здоровых, невиновных людей, заключенных туда по политическим причинам. Многих тут же освободили - шла «хрущевская оттепель».
Разумеется, каждый раз, освободившись, Писарев восстанавливался в партии, но отнюдь не для камуфляжа, как Батенька, а потому что продолжал искренне верить в коммунистические доктрины. Считал себя последователем Ленина. Сталина же настолько ненавидел, что никогда не произносил его имени - называл не иначе как Джугашвили.
Разумеется, во всех несчастьях виноват у него был Сталин, который, по его словам, совершил в 30-е годы государственный переворот, уничтожив истинных ленинцев.
- Партия полностью переродилась, - говорил он медленно, часто переводя дыхание в своем специальном кресле с высокой спинкой. - В этих условиях мы все должны вступать в партию, чтобы оздоровить ее. Вот вы - честный человек. Ваше место в партии, чтобы изнутри бороться с перерожденцами.
Такая логика была мне непонятна. Я же не верю в коммунизм, в любой - ленинский или сталинский. Как же мне вступать в партию?
(Один наш приятель зло острил, отвечая на такие уговоры: «Это все равно, что мне предложили бы жениться на сифилитичке и родить с нею здоровых детей: и она не выздоровеет, и дети будут больные, и сам заражусь»)
Но мое неверие в коммунизм не смущало Писарева, и он принимался доказывать, что я фактически в него верю, только сам этого не осознаю. Ленин, по его словам, хотел именно того, чего хочу я, и он всячески уговаривал меня перечитать Ленина.
Жил он в крохотной комнатушке, забитой до отказа томами классиков марксизма и подшивками газеты «Правда» чуть ли не с первого выпуска. Реабилитировавшись очередной раз, он стал получать какую-то смехотворно маленькую пенсию, но даже ее всю тратил на книги. Питался же сгущенным молоком. Часто знакомые, зная его положение, тайком оставляли у него банки этого молока, засунув их куда-нибудь незаметно.
Иногда, на каком-нибудь особенно остром этапе своей беспрерывной борьбы с перерожденцами, он вынужден был скрываться и жил тогда у кого-нибудь из знакомых. Он тоже знал о списках, о предполагаемой реабилитации Джугашвили и, конечно, вел свою борьбу - писал бесконечные петиции всем партийным инстанциям.
Я слушал его с интересом, но принять эту позицию никак не мог. Не только внутрипартийная борьба за чистоту ленинизма была для меня неприемлема - даже апеллировать к властям я не мог, это было бы фактическим признанием их с моей стороны. Даже просто работать на государственном предприятии значило фактически поддерживать эту власть, построенную на насилии.
Все чаще и чаще я стал бывать у Алика Вольпина. После нашего знакомства примерно в сентябре 61-го года, еще до разгрома Маяка, а потом и во время допросов по делу маяковцев виделись мы довольно часто и даже работали одно время вместе в НИИ. Там же вел он семинар по семантике, а я ходил его слушать. Когда я сидел, он бывал у моей матери. Это вообще было его правилом - навещать родственников арестованных, даже если он с ними и знаком не был. И конечно же, первым делом разъяснял он всем законы.
Поражало меня, с какой серьезностью он рассуждал о правах в этом государстве узаконенного произвола. Как будто не очевидно было, что законы существуют у нас только на бумаге, для пропаганды и везде оборачиваются против тебя. Разве не говорили нам в КГБ вполне откровенно: «Был бы человек, а статья найдется». Закон что дышло - и поворачивали это дышло всегда против нас. Решающим, стало быть, был не сам закон, а кто его будет поворачивать.
Всего десять лет назад вскрылось, что эти самые законы вполне уживались с убийством чуть ли не двадцати миллионов ни в чем не повинных людей. Сам автор нашей Конституции, Бухарин, едва успел ее закончить, как был расстрелян.
Какой же смысл толковать о законах? Все равно что с людоедом толковать о человечности.
Да и сам Алик уже дважды попадал в тюремную психиатрическую больницу, и всего лишь за чтение своих стихов. Не на площади даже, а дома, своим друзьям. Неужели это его не убедило? Словом, казался он мне чем-то наподобие тех закоснелых марксистов, которых даже тюрьма уже просветить не может. Его вечно всклокоченный вид, совершенная непрактичность, неприспособленность к жизни, абсолютное безразличие к тому, как он выглядит, лишь дополняли картину, дорисовывали почти хрестоматийный образ чудака-ученого. Он и был ученым - математиком, логиком.
Удивительно подкупала в нем совершенно детская непосредственность, незащищенность, неожиданная в сорокалетнем человеке. Думаю, большинство его друзей - почти все прошедшие через сталинские лагеря - любили в нем именно эти качества. На рассуждения же о законности смотрели снисходительно, как на простительное чудачество, и только с улыбкой покачивали головами, когда он очередной раз разворачивал свои логические построения.
То ли постоянные занятия логикой наложили отпечаток, то ли, напротив, выбрал он этот предмет именно в силу особой близости своего мышления к формальной логике, только все его рассуждения строились строго по принципам логических схем. Любое утверждение, с его точки зрения, должно быть или истинным, или ложным. Относительности этих понятий он совершенно не признавал и очень сердился на обычную в разговорной речи неточность выражений, считая ее чуть ли не основной причиной человеческих несчастий. Собственно, все его рассуждения истекали из простого, по-детски наивного принципа «не хочу лгать». Именно мы сами, внося в свою жизнь ложь, двусмысленность и неопределенность, затем страдаем от них. Но поскольку истинность любого суждения всегда в реальной жизни условна, то все его рассуждения, особенно в споре, моментально обрастали бесконечными отступлениями, оговорками, сносками, исключениями, поправками, неизбежно приводили к проблеме соответствия самого слова тому, что оно обозначает, и кончались в таких дебрях семантики, что никто уже ровным счетом ничего понять не мог. Один только Алик, озаряя собеседников голубым взглядом, считал, что все предельно просто. Только не хватает людям терпения докопаться до истины.
Легко себе представить, что получалось от столкновения Алика с советской карательной машиной. Помню, уже несколько лет спустя вызвали Алика на допрос в КГБ по одному делу. Жена, зная по опыту, чем это может кончиться, заранее предупреждала следователя добром отказаться от этой затеи. Но тот не внял. Не знаю, чем начался допрос. Доподлинно известно лишь, что через два часа Алик уже чертил следователю на пустом бланке протокола какие-то схемы, круги и треугольники, пытаясь пояснить одну, самую простую из своих мыслей. Через четыре часа, когда они, пройдя краткий курс теории множеств, добрались наконец до проблемы денотата, взмыленный следователь в полуобморочном состоянии звонил жене Алика, умолял ее забрать мужа. Естественно, она отказала, справедливо считая, что следователь сам виноват, не послушавшись ее сразу.
- Теперь как знаете, так и выпутывайтесь, - ответила она.
Счастье еще, что в этот раз Алик был вызван как свидетель, а не как обвиняемый. Иначе следствие вполне логично перешло бы для него в психиатрическую экспертизу. Но ведь и психиатры - отнюдь не математики и не логики. «Истинность» и «ложность» отнюдь не являются предметами психиатрического исследования. Поэтому все следствия кончались для Алика одинаково - психиатрической больницей специального типа для особо опасных.
А что еще могло получиться? Представьте себе на минуту, что КГБ вдруг придет в голову арестовать компьютер. С одной стороны, компьютер невозможно запугать или запутать, склонить к компромиссу, ложному признанию или даже частичной лжи. С другой стороны, компьютер просто не поймет двусмысленного языка следственных вопросов, советских законов. Его логические схемы либо будут выдавать ответ типа «истинно-ложно», либо если попытаться получить развернутый ответ - последовательность рассуждений, то выскочит длинная перфолента с какими-то бесконечными единичками и нулями. Что прикажете с ней делать? Подколоть к протоколу? Ручаюсь, что дело кончится, как у Алика, - спецбольницей. Ведь сколько ни стучи кулаком по столу - ничего не произойдет, разве что лампочка перегорит.
Я отчаянно спорил с Аликом, иногда чуть ли не до утра. И не только потому, что в 19-20 лет нужно со всеми спорить, но просто весь ход его рассуждений, все отправные точки были для меня неприемлемы, а все, что он говорил, казалось не имеющим отношения к жизни. Но, возвращаясь под утро домой в совершенно горячечном состоянии, я вдруг обнаруживал с ужасом, что полностью усвоил очередное его построение. Дело в том, что не только советская психиатрия обогащалась от столкновения с Вольпиным, но и он, в свою очередь, обогащался от столкновения с ней и с советскими законами. Быть может, впервые за 50 лет эти законы оказались таким образом пропущенными через компьютер и прошли тест на «истинно-ложно». Я же получал уже готовый продукт.
Центральной в его рассуждениях была позиция гражданина. Она-то и давала до смешного простой выход из всех моих затруднений.
Затруднения эти начинались, когда от меня требовали быть советским человеком. Понятие это до того расплывчатое и демагогическое, что никогда точно не знаешь, какие обязанности оно налагает. Советский - это значит с энтузиазмом строящий коммунизм, единодушно одобряющий политику партии и правительства, гневно осуждающий мировой империализм, Да мало ли что завтра выдумает пропаганда? Официальная идеология создала какой-то мифический образ советского человека, и каждое новое ее изобретение становилось чем-то вроде директивы для всех.
С понятия «советский человек» и начиналось все беззаконие в стране. В него так же, как в понятие «социализм», каждый очередной правитель вкладывал, что хотел. И спорь с ними потом на партсобраниях, как Писарев, - критериев-то никаких нет. Высший судья в этом вопросе - ЦК партии. А всякое иное толкование - уже преступление.
- Вы же советский человек, - говорит с напором сотрудник КГБ, - а значит, должны нам помочь.
И что ты ему скажешь? Если не советский, то какой? Антисоветский? А это уже семь лет лагерей и пять ссылки. Советский же человек обязан сотрудничать с нашими доблестными органами - это ясно, как день. За что, к примеру, меня выгнали из университета? За то, что не соответствую «облику советского студента».
Между тем. доказывал Вольпин, никакой закон не обязывает нас быть «советскими людьми». Гражданами СССР - другое дело. Гражданами СССР все мы являемся в силу самого факта рождения на территории этой страны. Однако никакой закон не обязывает всех граждан СССР верить в коммунизм или строить его, сотрудничать с органами или соответствовать какому-то мифическому облику. Граждане СССР обязаны соблюдать писаные законы, а не идеологические установки.
Далее, понятие советской власти. Вы против советской власти или за? Я могу думать что угодно, но если я официально заявлю, что против, - это уже антисоветская пропаганда. Опять семь плюс пять. Что ж мне - лгать? Или сознательно нарушать законы? Однако этого и не требовалось. Согласно Конституции СССР политическую основу советской власти составляет власть Советов депутатов трудящихся, тот самый бутафорский орган, который на деле имеет меньше власти, чем рядовой милиционер. Ни о какой партии в этом разделе Конституции и помина нет.
- Возражаю ли я против власти некоего парламента, который называется Совет депутатов трудящихся? - рассуждал Вольпин. - Нет, не возражаю. Тем более что абсолютно нигде не сказано, что он должен быть однопартийным. Название, конечно, можно было бы придумать и получше.
Это рассуждение было чрезвычайно важным, так как на практике власти автоматически объявляли антисоветским все, что им не нравилось. Рассуждая же строго юридически, никто из нас не совершал преступления, пока не выступал прямо против власти Советов депутатов трудящихся. А кому она мешает?
Создавая законы в основном для пропаганды, а не для исполнения, наши идеологи перемудрили. Им, в сущности, ничего не стоило написать вместо Конституции: «В СССР все запрещено, кроме того, что специально разрешено решением ЦК КПСС». Но это, наверное, вызвало бы лишние трудности, несколько шокировало бы соседние государства. Сложнее стало бы распространять свой социализм за рубеж легковерным людям. А потому они понаписали в законах много свобод и прав, которых просто не могли бы допустить, - справедливо считая, что не найдется таких отчаянных, чтобы потребовать от них соблюдения этих законов.
Поэтому идея Вольпина в переводе на человеческий язык с машинного сводилась к следующему:
Мы отвергаем этот режим не потому, что он называется социалистическим: что такое социализм, никакой закон не определяет, и, следовательно, граждане не обязаны знать, что это, - а потому, что он построен на произволе и беззаконии, пытается навязать силой свою идиотскую идеологию и заставляет всех лгать и лицемерить. Мы хотим жить в правовом государстве, где закон был бы незыблем и права всех граждан охранялись бы, где можно было бы не лгать - без риска лишиться свободы. Так давайте жить в таком государстве. Государство - это мы, люди. Какими будем мы, таким будет и государство. Данные нам законы при внимательном рассмотрении вполне позволяют такую интерпретацию. Давайте же - как добрые граждане нашей страны - соблюдать законы, как мы их понимаем, то есть как они написаны. Мы не обязаны подчиняться ничему, кроме закона. Давайте защищать наш закон от посягательств властей. Мы - на стороне закона. Они - против. Конечно, в советских законах есть много абсолютно неприемлемого. Но разве граждане других, свободных стран довольны всеми своими законами? Когда закон гражданам не нравится, они законными средствами добиваются его пересмотра.
- Но ОНИ же не могут обойтись без произвола, - возражали Алику. - Если они будут строго соблюдать законы, они просто перестанут быть коммунистическим государством.
- На самом деле я тоже так думаю, - заговорщицким шепотом соглашался Алик. И все смеялись.
- Чудак ты, Алик, - говорили ему. - Ну, кто же будет слушать тебя с твоими законами? Как сажали, так и будут сажать. Какая разница? - Ну, если кто-то нарушает законы, ущемляет мои законные права, я как гражданин обязан протестовать. Мало ли какая банда преступников попирает законы - это не означает, что я перестаю быть гражданином. Я обязан бороться всеми законными средствами. Прежде всего - гласностью.
И опять все смеялись: гласности захотел! Где ж ее взять, гласность? Газета «Правда», что ли, поможет?
Но, отсмеявшись, приходилось согласиться, что, отвечая беззаконием на беззаконие, никогда не обретешь законности. Другого пути просто не было. Так же, как, отвечая насилием на насилие, можно только увеличить насилие, а отвечая ложью на ложь - никогда не получишь истины. Опять наш растрепанный компьютер был прав.
Идея Алика была гениальной и безумной одновременно. Гражданам, уставшим от террора и произвола, предлагалось просто не признавать их. Это можно было бы сравнить с гражданским неповиновением, если бы не двусмысленность законов, делавшая такое поведение образцом гражданской доблести.
Представьте, что вы попали в компанию бандитов и пытаетесь обращаться к ним как к благовоспитанным, приличным людям. Идея фактически состояла в том, чтобы не признавать реальности, а - подобно шизофреникам - жить в своем воображаемом мире, в том мире, который мы желали бы видеть. Казалось бы, сумасшедшая затея.
Но в том-то и вся штука с коммунистами, что признать реальность созданной ими жизни, усвоить их представления - значит самим стать бандитами, доносчиками, палачами или молчаливыми соучастниками. Власть - это всего лишь согласие подчиняться, и каждый, кто отказывается подчиниться произволу, уменьшает его на одну двухсотпятидесятимиллионную долю, а каждый компромисс - усиливает его.
И разве реальная советская жизнь - не воображаемый шизофренический мир, населенный выдуманными советскими людьми, строящими мифический коммунизм? Разве все и так не живут двойной, а то и тройной жизнью? Гениальность идеи состояла в том, что она уничтожала эту раздвоенность, напрочь разбивала все внутренние самооправдания, которые делают нас соучастниками преступления. Она предполагала кусочек свободы в каждом человеке, осознание своей «правосубъектности», как выражался Вольпин. Иными словами, личную ответственность. Это-то и есть внутреннее освобождение.
Предположим, что такую точку зрения усвоит значительное число людей. Где тогда будет ЦК со своими идеологическими установками? Что будет делать КГБ со своей армией стукачей? Гражданину нечего скрывать, не в чем оправдываться - он лишь соблюдает законы. И чем более открыто он это делает - тем лучше.
- Ну, а что ты будешь делать, Алик, если завтра они изменят законы так, что не останется возможности их толковать по-твоему? - спросил я Алика.
- Тогда я, видимо, перестану быть гражданином этой страны.
Это было уже совсем непонятно простым смертным. Что ж, через границу бежать? Алик же пускался в длинные рассуждения о праве гражданина на выезд из своей страны и, конечно, на въезд в нее, ссылаясь при этом на какую-то Декларацию прав человека. Все только плечами пожимали: «Эк загнул!» Интересно, сколько из них, пожимавших тогда плечами, через семь-десять лет оказались в Вене, Риме, Тель-Авиве, Нью-Йорке? И только Вольпин, верный себе до конца, 113 окна вагона, уходящего на Вену, произнес речь о борьбе за свободу въезда...
А пока на московских кухнях велись эти юридически-семантические споры, события стучались в двери, неожиданным образом подтверждая правильность вольпинских рассуждений. Вскоре после освобождения из Ленинградской спецбольницы я познакомился с Валерием Яковлевичем Тарсисом.
Всего лишь несколько месяцев назад сняли Хрущева, к власти пришел триумвират Брежнева, Косыгина и Подгорного. По всему судя, готовилась реабилитация Сталина, в Кремле составлялись черные списки, а Валерий Яковлевич, окруженный иностранными корреспондентами, давал у себя в квартире посреди Москвы пресс-конференцию.
- Мистер Тарсис, - спрашивали его, - как вы относитесь к переменам в советском руководстве?
- Великий русский баснописец Крылов, - отвечал он, - сказал: «А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь». Что это - галлюцинации?
Лишь пару месяцев назад я видел человека, восемь лет просидевшего только за то, что он написал критическое письмо в ЦК, другой все еще сидел за анекдоты о Хрущеве, рассказанные приятелю на ухо. Третий за простое знакомство с иностранцами был обвинен в шпионаже. И если я действительно не сошел с ума и не бредил теперь, то не только сам Тарсис, но и все у него присутствующие, все их родственники и соседи должны были к вечеру оказаться на Лубянке. Дадут ли из квартиры-то выбраться?
Тарсис же чуть не каждый день устраивал такие пресс-конференции, и хоть бы что. Вот чудеса! Кто ж такой этот неуязвимый Тарсис?
- Все это гигантская провокация КГБ, - толковали подпольные мыслители. - Нас просто хотят заманить, выявить. Тарсис - это только приманка, ловушка. - И еще глубже зарывались в свои норы.
Экое изобретение - Тарсис! Нашли чем удивить бывалого советского человека. Слава Богу, пережили нэп, троцкистский заговор, бухаринскую оппозицию, космополитов и врачей-вредителей. Научились кой-чему, не лыком шиты. Уж как-нибудь на Тарсиса не клюнем, ищите кого поглупее. Самое главное при социализме - выжить. Сберечь себя! И если какой-нибудь провокатор начнет вслух ругать власть – первым делом ему надо дать отпор, громко и внятно, чтоб все слышали. А затем скорее-скорее бежать в КГБ, чтоб никто не опередил. Знаете, как в том анекдоте. Спрашивают заключенного: - За что сидишь?
- Да вот, понимаешь, поленился. Был на вечеринке. Один чудак анекдот рассказал про коммунизм. Ну, думаю, сегодня уже поздно, завтра пойду доносить. А назавтра выяснилось, что все пришли накануне - я последний оказался.
Возможно, и сам Тарсис лет двадцать назад рассуждал примерно так же. Учился в университете, вступил в партию, был на фронте, стал советским писателем. Но жизнь проходила, заканчивался шестой десяток, а просвета - никакого. В хрущевскую оттепель «выявил» себя Тарсис несколько больше, чем осмотрительные, солидные люди, и к 1960 году печатать его перестали полностью. Тут-то и стал он тайком переправлять свои рукописи за границу,
Этот, впоследствии традиционный, способ публикации начался тогда с Бориса Пастернака и стал казаться особенно заманчивым после присуждения ему Нобелевской премии. И, помалкивая или присоединяя свой голос к всенародному хору гневного осуждения, каждый подпольный писатель досадливо морщился:
- Эх, сдрейфил старик! Не хватило духу - отказался. Мне бы эту премию, я бы уж ни за что... Пусть хоть расстреляют. На миру и смерть красна.
Поэтому, когда в октябре 1962 г. первую книгу Тарсиса осторожные издатели опубликовали в Англии под псевдонимом, он этот псевдоним немедленно вскрыл и потребовал, чтобы впредь его печатали только под настоящей фамилией. Это-то его и спасло. (М. А. Нарица, рукопись которого в то же время опубликовали в Германии под псевдонимом Нарымов, открыться не успел и попал на три года в спецбольницу.)
Хрущев как раз был где-то за границей, и кто-то из приближенных принес ему книгу - в ней сам Хрущев был выведен под другим именем. Естественно, Хрущев рассвирепел и распорядился упрятать Тарсиса в сумасшедший дом. Дело было спешное - арестовывать, обвинять, посылать на экспертизу да отправлять в больницу специального типа было некогда, да и не с руки: разрастался скандал. И Тарсиса посадили в обыкновенную городскую психбольницу им. Кащенко. И хоть по нынешним стандартам скандал был относительно невелик, через три месяца его были вынуждены освободить. Сам Снежневский прилетел разъяренный с какого-то международного симпозиума, где осмелились спросить о Тарсисе, и выпустил его, всячески перед ним заискивая.
Пытаясь как-то замять это неловкое дело, вызвали Тарсиса в КГБ, к заместителю Семичастного генералу Перепелицыну. - Валерий Яковлевич, - нежно мурлыкал генерал, - мы понимаем, какой вы крупный писатель, большой талант. Вы могли бы принести столько пользы нашему народу. Отчего бы вам не описать хорошие стороны нашей жизни? Ведь у нас так много хорошего, столько достижений. Тарсис был неумолим. Тогда генерал переменил тактику.
- Знаете, Валерий Яковлевич, - говорил он все так же нежно, - вы ведь обыкновенный смертный человек. Вас и машина может задавить случайно. Никто не застрахован...- и сочувственно качал головой.
- Что ж, - отвечал Тарсис, - мне вполне пойдет терновый венец. Учтите, никто вам не поверит, даже если меня действительно случайно задавит машина или кирпич упадет на голову. За границей все равно будут считать, что кровавые чекисты убили Тарсиса. Так что вы не только не убьете меня, но еще охранять будете - не дай Бог что случится.
И в 64-м году, незадолго до падения Хрущева, Тарсис опубликовал новую книгу под названием «Палата № 7», где описал все свои приключения в больнице им. Кащенко. Книга имела огромный успех и в короткий срок стала бестселлером. Тарсис же с тех пор жил совершенно так, как будто никакой советской власти не существует, давал интервью, пресс-конференции, почти открыто отправлял за границу новые рукописи, даже машину себе купил - на зависть всему писательскому дому, в котором продолжал жить.
И валом валил к нему народ, в особенности же корреспонденты и иностранные туристы, - посмотреть на восьмое чудо света. Буквально все, затаив дыхание, ждали: когда же этого Тарсиса арестуют, задавят машиной или распнут на кресте...
Бредовина какая-то! Зачем же нужно охранять границы, обыскивать на таможне, содержать цензуру, следить за иностранцами и держать армию агентов КГБ, если сидит посреди Москвы человек и говорит вслух все, что думает, дает интервью и публикует книги в Англии? А вечером все, что он сказал, можно услышать по Би-Би-Си! Где же «железный занавес»? Впервые появился в Советском Союзе человек, которого нельзя посадить.
И если люди постарше, поопытней обходили Тарсиса стороной, то молодежь от него не вылезала. Примерно в это же время, в начале 1965 года, появилась новая волна молодых поэтов, пытавшихся возродить Маяковку. Провели несколько выступлений на площади, вновь стали распространять в самиздате свои сборники, устраивать диспуты и т. п. Называли они себя странным словом СМОГ, что расшифровывали как «Смелость, мысль, образ, глубина» или еще: «Самое молодое общество гениев». Не знаю, как насчет всего остального, но смелость у них была. Выступали они, где только было можно, и, конечно же, через Тарсиса почти все напечатались за границей. Число людей, безнаказанно опубликовавшихся за рубежом, составляло таким образом несколько десятков, и это было очень важно.
Разумеется, советская официальная литература их не признавала, не печатала, выступления их запрещали, но и посадить сразу такую кучу народа не решались. У них были свои обширные сферы знакомств, и вместе с тем кругом, который образовался со времен первой Маяковки, они составляли значительную силу. Уже всерьез подумывали мы, не организовать ли явочным порядком русскую секцию ПЕН-Клуба и попросить о приеме в международный ПЕН, как произошло событие, имевшее чрезвычайные последствия: в сентябре арестовали двух писателей - Синявского и Даниэля.
Трудно было тогда сказать, что именно толкнуло власти на этот шаг - то ли хотели таким образом запугать остальных желающих напечататься за границей и прервать эту зарождающуюся традицию, то ли считали они, что вообще пришла пора приструнить разболтавшуюся интеллигенцию, надеялись взять реванш за неудачу с Тарсисом или просто увлеклись поисками таинственных неизвестных и не смогли удержаться, открыв их, - выглядело это, однако, так, будто начали реализовываться планы возрождения сталинизма, а Синявский и Даниэль - просто первые из предполагаемых пяти тысяч.
Думаю, то обстоятельство, что они печатались за рубежом под псевдонимами, а не под своими именами, сыграло не последнюю роль. Прежде всего потому, что по логике КГБ такое поведение является чуть ли не доказательством вины: раз скрывались, конспирировались - значит сознавали, что совершают преступление. Для советского человека это могло прозвучать убедительно, да и не только для советского.
С пропагандистской точки зрения дело казалось выигрышным, имело привкус детективного романа. Этакие тайные враги, прокрались в писатели, замаскировались и вредили исподтишка. Тут пишут одно, гам - другое! Дескать, им все равно, что писать, лишь бы деньги платили. Да мало ли чего можно навертеть вокруг этих псевдонимов.
А кроме того, такая недостаточно открытая, нерешительная позиция позволяла предполагать в арестованных недостаток мужества или прямо беспринципность, порождала надежду, что оба станут каяться и помогут КГБ создать большой пропагандистский открытый процесс-спектакль.
Конечно, рассчитывали в КГБ, что эта неясность с псевдонимами несколько замедлит и ослабит реакцию за рубежом - во всяком случае, сделает невозможными какие-либо протесты до суда. Словом, как и Нарице, псевдонимы сослужили Синявскому и Даниэлю весьма скверную службу. Подвела их подпольная психология.
Поначалу расчет КГБ оправдался, и первые реакции Запада на аресты были запоздалыми и нечеткими. Лишь через месяц смутно заговорили в зарубежной прессе о каких-то арестах не то трех, не то двух писателей, путали фамилии и псевдонимы, и все это выглядело не слишком достоверным.
Власти, конечно, с успехом вносили дополнительную путаницу и искусно успокаивали «прогрессивное общественное мнение», отрицая факты арестов, позволяя время от времени поездки за границу так называемых «спорных» поэтов, публикуя некоторые «спорные» статьи о литературе и т. д. Общее впечатление за рубежом было, что «новое руководство занимает терпимую позицию» по отношению к творческой интеллигенции.
Как и следовало ожидать, издатели и прочие осведомленные люди долгое время боялись вскрыть псевдонимы арестованных, считая, что повредят им. Последовали даже официальные опровержения некоторых издателей.
Довольно скоро, однако, литературные круги на Западе поняли, что эти аресты нацелены на всю «либеральную интеллигенцию», как они выражались, и являются для новых советских главарей своего рода пробным камнем. Некоторую остроту происходящему придало то, что в этом году Нобелевская премия по литературе была присуждена советскому партийному чиновнику Шолохову. Появилась возможность - казавшаяся всем очень остроумной обращаться к нему с гуманистическими призывами. Он, естественно, выполняя свой партийный долг, наговорил каких-то глупостей при получении премии. Зашевелилось все мировое сообщество писателей, посыпались протесты, письма, обращения, телеграммы, и даже откровенно коммунистические органы печати вынуждены были реагировать. Словом, скандал разрастался настолько серьезный, что, если бы скрипучая советская машина умела останавливаться, она бы остановилась Но эта система настолько не привыкла корректировать свои действия, настолько не способна вовремя признать ошибку, обладает такой наглостью и тупым высокомерием, что только угроза полного разрыва с цивилизованным миром могла заставить ее образумиться в тот момент.
Разумеется, они не ожидали такой реакции и, если бы могли предвидеть ее заранее, вряд ли затеяли бы дело. Теперь же, ввязавшись в него, делали хорошую мину при плохой игре, полностью игнорируя общественное мнение.
Впоследствии мы часто поражались идиотскому упрямству наших властей, нежеланию видеть очевидные факты, что причиняло им катастрофический вред. Иногда кажется, что они прямо специально выбирают самое идиотское решение и уж потом ни за что не хотят от него отказаться. Помню, в 1970-1971 гг. произошел такого рода эпизод.
Один из моих знакомых, Леня Ригерман, родившийся в США и привезенный в детстве в СССР, обратился к американскому консулу с просьбой выяснить его права на американское гражданство. Для обсуждения этого вопроса американский консул пригласил его прийти в консульство. Консул считал вопрос запутанным и был уверен, что потребуется много времени и усилий для того, чтобы Ригерман получил американское гражданство.
Власти наши ни под каким видом не позволяют советским гражданам входить в иностранные посольства, хоть это и не запрещено законом. Зная об этом, Ригерман предупредил консула, что вряд ли он к нему попадет. Консул не мог этому поверить: только что была подписана между СССР и США консульская конвенция, статья 12 которой прямо предусматривает право граждан одной страны посещать консульство другой для выяснения вопросов о гражданстве. На всякий случай, однако, он послал сотрудника консульства встретить Ригермана и проводить внутрь.
Разумеется, Ригермана взяли у входа и на глазах этого сотрудника отправили в отделение милиции. Там его обыскали, отняли все бумаги и долго вели «воспитательную» беседу - о положении на Ближнем Востоке.
Возмущенный консул обратился за разъяснениями в советский МИД, спрашивая, должен ли он считать данный эпизод за намерение советской стороны денонсировать консульскую конвенцию. В МИДе, лучезарно улыбаясь, его заверили, что никаких таких намерений не имеется, напротив - советско-американская дружба крепнет день ото дня. А происшедшее объяснили досадным недоразумением.
Ободренный консул вновь пригласил Ригермана. На этот раз он сам вышел встречать Леню с консульской конвенцией в руках и пытался разъяснить ее охране внизу. Но и на этот раз Ригермана уволокли в машину на глазах у потрясенного консула. Опять же приволокли в милицию, обыскали и заставили прослушать новую беседу - о политике партии в области эмиграции.
Выйдя из милиции, Ригерман снова созвонился с консулом и снова пошел к нему. И снова был задержан. На сей раз, однако, он был осужден на семь суток за «злостное неповиновение законным требованиям представителей власти».
Каждый раз посольство США и Госдепартамент направляли советским властям протест против нарушения конвенции и каждый раз получали заверения, что советской стороной конвенция соблюдается неукоснительно. Наконец американское правительство, окончательно потеряв терпение, вне всей бюрократической процедуры объявило о предоставлении Ригерману и его матери американского гражданства.
Под Новый год он зашел ко мне, и я спросил, пустят ли его хоть теперь в посольство, получить документы и визы.
- Не знаю, - грустно ответил он. - Видимо, за мной пришлют посольскую машину с флагом. В феврале 71-го года он уехал с матерью в Штаты.
Порою это саморазрушительное упрямство властей кажется просто невероятным, однако мы забываем, что террористическая власть и не может быть иной. Ее отличие от власти демократической в том и состоит, что она не является функцией общественного мнения. А в таком государстве человек не может иметь никаких прав - любое неотъемлемое право отдельного человека моментально отнимает у государства крупицу власти. Каждый человек обязан усвоить с детства как аксиому, что никогда, ни при каких обстоятельствах и никаким способом не сможет он повлиять на власть. Любое решение приходит только по инициативе сверху. Власть незыблема, непогрешима и непреклонна, а всему миру только одно и остается - приспосабливаться к ней. Ее можно униженно просить о милости, но не требовать от нее положенного. Ей не нужны сознательные граждане, требующие законности, ей нужны рабы. Равным образом, ей не нужны партнеры - ей нужны сателлиты. Подобно параноику, одержимому своей фантастической идеей, она не может и не хочет признавать реальности - она реализует свой бред и всем навязывает свои критерии.
Мы никогда не избавимся от террора, никогда не обретем свободы и безопасности, пока не откажемся полностью при знавать эти параноические реальности, пока не противопоставим им свои реальности, свои ценности.
Тысячи книг написаны на Западе, сотни различных доктрин созданы крупнейшими политиками, чтобы найти компромиссный выход. И все они пытаются избежать единственно верного решения - морального противостояния. Изнеженные западные демократии забыли свое прошлое, свою суть, а именно, что демократия - это не уютный дом, красивая машина или пособие по безработице, а прежде всего право бороться и воля к борьбе.
Все эти хитроумно-наивные теории лишь усиливают несвободу, разжигают аппетиты хищников, вводят двойные стандарты, подрывают моральные основы самих западных обществ, порождают бессмысленные иллюзии и надежды. Близорукая политика бесконечных уступок и компромиссов создала это чудовищное государство, вскормила его и вооружила. Затем, не придумав ничего лучшего, вскормила и вооружила Гитлера и поставила все человечество перед необходимостью воевать за то, какого цвета будут в мире концлагеря - красные или коричневые. Выбирайте теперь - рабство или смерть. Другого выхода ваши теоретики вам не оставили. Нет, ни атомные бомбы, ни кровавые диктатуры, ни теории «сдерживания» или «конвергенции» не спасут демократии. Нам, родившимся и выросшим в атмосфере террора, известно только одно средство - позиция гражданина.
Есть качественная разница в поведении одного человека и человеческой толпы в крайней ситуации. Народ, нация, класс, партия или просто толпа - в экстремальной ситуации не могут пойти дальше определенной черты: инстинкт самосохранения оказывается сильнее Они могут пожертвовать частью, надеясь спасти остальное, могут распасться на группки и так искать спасения. Это-то их и губит.
Быть одному - огромная ответственность. Прижатый к стенке, человек осознает: «Я - народ, я - нация, я - партия, я - класс, и ничего другого нет». Он не может пожертвовать своей частью, не может разделиться, распасться и все-таки жить. Отступать ему больше некуда, и инстинкт самосохранения толкает его на крайность - он предпочитает физическую смерть духовной.
И поразительная вещь - отстаивая свою целостность, он одновременно отстаивает свой народ, свой класс или партию. Именно такие люди завоевывают право на жизнь для своего сообщества, хоть, может быть, и не думают о нем.
- Почему именно я? - спрашивает себя каждый в толпе. - Я один ничего не сделаю. И все они пропали.
- Если не я, то кто? - спрашивает себя человек, прижатый к стенке. И спасает всех. Так человек начинает строить свой замок.
Так вот и получилось, что в ноябре 65-го года несколько человек начали распространять среди своих знакомых машинописные листочки с «Гражданским обращением» - текст сочинил, конечно, Алик Вольпин:
«Несколько месяцев тому назад органами КГБ были арестованы два гражданина: писатели А. Синявский и Ю. Даниэль. В данном случае есть основания опасаться нарушения закона о гласности судопроизводства. Общеизвестно, что при закрытых дверях возможны любые беззакония и что нарушение закона о гласности (ст. Ill Конституции и ст. 18 УПК РСФСР) уже само по себе является беззаконием. Невероятно, чтобы творчество писателей могло составить государственное преступление.
В прошлом беззакония властей стоили жизни и свободы миллионам советских граждан. Кровавое прошлое призывает нас к бдительности в настоящем. Легче пожертвовать одним днем покоя, чем годами терпеть последствия вовремя не остановленного произвола.
У граждан есть средства борьбы с судебным произволом. Это «митинги гласности», во время которых собравшиеся скандируют один-единственный лозунг: "Тре-бу-ем глас-но-сти суда над..." (следуют фамилии обвиняемых) или показывают соответствующий плакат. Какие-либо выкрики или лозунги, выходящие за пределы требования строгого соблюдения законности, безусловно являются при этом вредными, а возможно, и провокационными и должны пресекаться самими участниками митинга.
Во время митинга необходимо строго соблюдать порядок. По первому требованию властей разойтись - следует расходиться, сообщив властям о цели митинга.
Ты приглашаешься на митинг гласности 5 декабря с. г. в 6 часов вечера в сквере на площади Пушкина у памятника поэту. Пригласи еще двух граждан посредством текста этого обращения".
Конечно, у этой затеи нашлось множество противников. Как обычно, говорилось, что это провокация КГБ, чтобы всех "выявить", и т. п. Большинство, однако, поддержало идею, и даже такой пессимист, как Юрка Титов, сказал:
- Вот, понимаешь, эти интеллектуалы наконец придумали что-то толковое.
Обращение расходилось по налаженным самиздатским каналам, по которым еще вчера шли стихи Мандельштама, Пастернака и литературные сборники. Эти "каналы доверия" оказались самым большим нашим достижением за десять лет, и благодаря им к декабрю практически все в Москве знали о готовящемся в День Конституции митинге.
Памятуя наш опыт выступлений на Маяковке, я был уверен, что скандировать лозунги - дело и ненадежное и опасное. Пойди докажи потом, что ты кричал. Плакаты с лозунгами были бы лучше во всех отношениях, поэтому я договорился на всякий случай с несколькими ребятами, что они изготовят их.
Поначалу оживление было необычайное, только и разговоров по Москве, что об этой демонстрации. Но чем ближе к Дню Конституции, тем больше появлялось пессимизма и даже страха - никто не знал, чем эта затея кончится. Власть такая, она все может. Загонят всех в сумасшедшие дома или еще чего похуже. Все-таки как-никак предстояла первая свободная демонстрация в стране с 1927 года.
Второго декабря, только я успел отдать последнюю пачку обращений одному из смогистов в кинотеатре "Москва" на площади Маяковского, как при выходе на улицу меня окружила целая толпа агентов КГБ. Они почему-то считали, что я вооружен, и буквально тряслись от страха. Плотно сжав меня со всех сторон, так, чтобы я не успел даже рукой шевельнуть, посадили в уже ожидавшую "Волгу". С боков двое, впереди, рядом с шофером, начальник опергруппы.
- Руки вперед, на спинку сиденья. Не двигаться, не оглядываться.
- Закурить можно?
- Нельзя.
Привезли в ближайшее отделение милиции. Обыскали. Как назло, один экземпляр обращения оставил я себе, чтобы сделать еще копии. Больше ничего не нашли. Отвели в дежурную комнату милиции: "Посидите". Подозрительно было, что не повезли сразу на Лубянку или в Лефортово. Чего ждут? Приказа, что ли? Разговорился с милиционерами.
- КГБ забрал? Небось ни за что ни про что? - сочувственно спрашивали они. - Тоже горе-сыщики.
Ненависть милиции к КГБ - штука не новая, много раз нас выручала. Воспользовался я ею и теперь: вытащил свою маленькую записную книжечку с кой-какими адресами и уничтожил. Милиционеры мои даже усом не повели. Кто знает, чьи там адреса были - может, их сыновей... - Куда меня? Качают головами, явно не знают.
Минут через двадцать вызвали в кабинет. За столом - женщина в пальто. Перед ней бумаги какие-то и мой экземпляр обращения.
- Здравствуйте. Садитесь. Как себя чувствуете? А, понятно - психиатр. Сразу можно определить по улыбочке: так понимающе-снисходительно улыбаются только психиатры. И взгляд - словно на букашку смотрит: "Ну, куда ползешь, глупая!.." Будто стакан водки хватил - нахлынул на меня Ленинград с его толпой ободранных безумцев. "Наш маленький Освенцим". Даже запахло больницей.
Все, что я сейчас скажу, каждый мой жест она переврет и запишет в историю болезни. И это непоправимо. Спорить с психиатром бесполезно. Они никогда не слушают, ЧТО ты говоришь. Слушают, КАК ты говоришь. Горячиться нельзя - будет запись: "Возбужден, болезненно заострен на эмоционально значимых для него темах". Аминазин обеспечен. Будешь слишком подавлен, угрюм - запишет депрессию. Веселиться тоже нельзя - "неадекватная реакция". Безразличие - совсем скверно, запишет "эмоциональную уплощенность", "вялость" - симптом шизофрении.
Не выглядеть настороженным, подозрительным, скрытным. Не рассуждать слишком уверенно, решительно ("переоценка своей личности"). Главное же - не тянуть, отвечать быстро, как можно более естественно. Все, что она сейчас запишет, никакими силами потом не опровергнешь. Она же первая меня видит - ей вера. Приоритет в психиатрии у того, кто первый видит больного. Через десять минут уже может быть улучшение. Ну, помоги мне Бог и сам Станиславский!
И я говорю таким сердечным, бодрым тоном, точно родной матери:
- Здравствуйте. Спасибо, на здоровье не жалуюсь.
Два-три рутинных вопроса: фамилия, адрес, год рождения - проверка на ориентированность. Как они все бездарно одинаковы. Сейчас спросит, какое число. А какое? Да, 2 декабря. Три дня до демонстрации. Нет, не спросила. Уф, кажется, первый раунд за мной. Посадить все равно посадят. Только бы лишнего не написала, сука старая. - Мы вас госпитализируем по распоряжению главного психиатра города Москвы.
- За что же? - изумляюсь я вполне натурально, будто сроду не был в психбольнице. - Никого вроде бы не трогаю. На людей не бросаюсь, не кусаюсь. Но тут уж ее не проведешь.
- А вот это что? - говорит она, показывая на мой проклятый листочек, и во взгляде у нее опять превосходство. Дескать, знаю я вашего брата, психов. Бегает по городу с листовками в кармане и еще удивляется, что забрали. Нормальный человек этим не занимается. И возражать здесь бесполезно. Даже опасно. Психиатр должен быть всегда прав.
- Да я ее только что нашел. И прочесть-то не успел, - говорю я больше для проформы, чтоб не молчать, без всяких эмоций. Все это уже значения не имеет. Главное - ничего она мне не напишет. Последний раунд тоже за мной. А там, в больнице, все будет заново. Про этот листочек еще говорить и говорить.
Лишь дорогой, в психовозке, переводя дух после беседы, подумал я с тоской: "Эх, мало погулял. Всего девять месяцев. Сейчас бы действовать и действовать - самое время начинается".
Одно было хорошо: санитары попались веселые, и всю дорогу рассказывали мы друг дружке анекдоты про Ленина. Так и прикатили в психушку - городскую психиатрическую больницу № 13 в Люблино. - Ну, вылезай, политический. Приехали.
Обычная городская больница - просто рай по сравнению со спецбольницей, и, хотя посадили меня в отделение для беспокойных больных, с запорами понадежней, с режимом пожестче, - уже через пару дней я там освоился. Лучшей рекомендацией мне было то, что меня забрали по приказу КГБ, - никто после этого не сомневался в моей нормальности. Врачи, фельдшера, санитары - все были молодые ребята моего возраста или чуть постарше, и мы моментально нашли общий язык, а иногда и общих знакомых.
После первой же беседы со своим врачом, доктором Аркусом, я был уверен, что не только "лечить" он меня не станет, но считает вполне здоровым и постарается сделать все от него зависящее, чтобы освободить. А это было вовсе не просто. Как и везде в СССР, посадить легко, выпустить же - целая проблема. Нужно согласие главврача, а то и целой комиссии. И это еще не все: свое мнение они могли лишь сообщить главному психиатру Москвы, и только он мог принять окончательное решение. Намерений же властей никто не знал - лишь подозревали, что они планируют вернуть меня в Ленинград как "недолечившегося" и "преждевременно выписанного".
Уже на следующий день друзья пронюхали, куда я делся, и пришли целой толпой. Разумеется, все разговоры вертелись вокруг предстоящей демонстрации и ее возможных последствий. Настроения заметно колебались. Случай со мной увеличивал опасения, что всех просто пересажают. Энтузиазм стремительно падал - а вдруг никто не решится прийти? Я очень боялся, что эти настроения возьмут верх, поэтому, когда под конец Юрка Титов напрямик спросил - устраивать демонстрацию или не устраивать, я ответил, что, если теперь ничего не Произойдет, это отразится на моей судьбе. Получится, как будто без меня все распалось, и я буду выглядеть главным зачинщиком. На самом деле, это не могло сказаться на мне - скорее наоборот, но уж очень я боялся, что восторжествует пессимизм, и хотел всех связать каким-нибудь моральным обязательством. Конечно, это было нечестно с моей стороны, и я, таким образом, толкал их на действие отчасти против их воли. В известной степени это, однако, решило дело.
Весь день пятого декабря я провел как на иголках. Подумывал даже, не попробовать ли бежать из больницы. Время тянулось бесконечно. Лишь назавтра пришли ребята и рассказали подробности.
К шести часам Пушкинская площадь представляла собой забавное зрелище. Основная масса любопытных плотной стеной стояла вокруг площади, даже на другой стороне улицы" У памятника же прогуливались группами и в одиночку, с видом случайных прохожих, участники демонстрации, работники КГБ и иностранные журналисты. Кто-то даже пришел с лыжами в руках, чтобы в случае чего иметь правдоподобное объяснение своего присутствия: дескать, ехал из-за города с лыжной прогулки, остановился случайно на площади посмотреть, чего толпа собралась. Алика Вольпина один из его друзей, безногий инвалид, привез прямо к площади на инвалидной машине - иначе его задержали бы по дороге.
Как я и ожидал, на выкрики никто не отваживался, и все как-то не знали, что делать дальше. Видя, однако, что ничего страшного не происходит, толпа постепенно осмелела, стягивалась к памятнику, и уже человек двести образовали плотную группу в центре. Положение спас Юрка Титов. Оказалось, что после нашего разговора в больнице он. никому не говоря ни слова, сделал дома бумажные плакаты с надписями: "Уважайте Конституцию", "Требуем гласности суда над Синявским и Даниэлем", "Свободу Буковскому и другим, задержанным за подготовку демонстрации". (Днем, перед самой демонстрацией, забрали в психбольницу еще двоих - Вишневскую и Губанова.) Эти плакаты он принес под пальто на площадь и теперь в самой гуще людей принялся их вытаскивать, разворачивать и передавать другим. На какое-то мгновение плакаты развернулись над толпой, и тут же агенты КГБ и оперативники кинулись их вырывать, рвать и комкать. Тех же, кто держал эти плакаты, быстро уводили к машинам.
В общей сложности забрали человек двадцать. Тут, в наступившем замешательстве, на подножие памятника взобрался Галанскову и крикнул:
- Граждане свободной России, подойдите ко мне... Граждане свободной России в штатском тотчас же бросились к нему, сбили с ног и уволокли в машину.
В отделении милиции, куда собрали всех задержанных, хозяйничали оперативники КГБ, допрашивали, осматривали плакаты.
- Что это вы хотите сказать лозунгом "Уважайте Конституцию"? Против кого он направлен?
- Видимо, против тех, кто ее не уважает.
- А кто именно ее не уважает?
- Ну, например, те, кто разгоняет мирные демонстрации...
У Алика Вольпина отобрали плакат с требованием гласности суда над Синявским и Даниэлем. Однако оперативник, отнимавший на площади плакат, так удачно вырвал клок в середине, что теперь, когда сложили две оставшиеся половины, получалось: "Требуем суда над Синявским и Даниэлем". Видно, слово "гласность" так возмутило оперативника, что он вцепился в него мертвой хваткой. Всех задержанных продержали часа два и отпустили. Позже я узнал, что даже разгон демонстрации прошел не так, как хотелось бы властям. Первоначально собирались они использовать для этих целей не КГБ, а комсомольцев из оперативных отрядов. Однако наткнулись на неожиданное сопротивление. На специальном собрании, где представители КГБ и партийных властей проводили с ними инструктаж, комсомольцы неожиданно взбунтовались. Подавляющее большинство были студенты и возмутились, что их собираются использовать как грубую полицейскую силу, не считаясь сих мнением.
- Дайте нам сначала прочесть, что эти писатели написали, а уж потом мы решим, как поступить, - заявили они.
Пришлось КГБ срочно менять планы, а кое-кого из непокорных, в том числе моего школьного приятеля Ивачкина, потом выгнали из комсомола.
По всему чувствовалось, что момент для протеста был выбран на редкость удачно. Расшевелились-таки сограждане. И, хоть участников демонстрации продолжали преследовать внесудебным порядком - выгонять из институтов, с работы, общественное мнение оказалось на стороне Синявского и Даниэля.
Наконец советская пропаганда не выдержала этого двойного давления извне и изнутри, и в начале января появилась большая статья в "Известиях" - первая публикация в советской прессе об этом деле. Конечно, статья пыталась спекулировать на псевдонимах, изображала Синявского и Даниэля лицемерами, которые якобы в советской печати восхваляли советскую власть, а за рубежом, исподтишка, чернили. И непонятно было, что больше возмущает автора статьи - восхваление власти или ее очернение. Расчет был на антисоветскую настроенность людей в СССР - получалось, что если бы не эта двойственность, то и говорить не о чем. Статья даже называлась "Перевертыши". Но и в этом не смогла выдержать тон советская пропаганда - как всегда, не хватило тонкости. Истошный, базарный тон статьи, произвольное цитирование в отрыве от контекста, а главное - прямое предвосхищение решения суда, обвинение в антисоветской пропаганде и чуть ли не в измене - все это вызвало поток протестов как внутри страны, так и за рубежом.
Пришлось властям срочно инспирировать письма трудящихся, поддерживающих статью. По единому на все случаи жизни сценарию - стали появляться возмущенные письма агрономов, доярок, сталеваров и оленеводов. Оставалось только провести митинги по заводам и колхозам, чтобы довершить картину всенародного осуждения. Не утерпела и "Литературная газета" - тоже разразилась гневной статьей. Словом, начинался обычный шабаш советской пропаганды, принцип которого очень прост: вопи как можно истошней, чтоб уже ничего другого слышно не было. Как в детском стишке:
Тот, кто громче скажет "гав", Тот всегда и будет прав.
И все это, естественно, привело к обратным результатам: к моменту открытия суда над Синявским и Даниэлем скандал разросся до глобальных размеров. Тут, чтобы хоть как-то смазать впечатление, власти неожиданно выпустили за границу Тарсиса. Мы, дескать, судим только тех, кто "перевертыши", а которые открыто - тех даже за границу пускаем. Одновременно они весьма ловко избавлялись и от Тарсиса, с которым тоже не знали, что делать.
Все-таки нужно отдать должное изобретательности наших властей. Такие два события, как выезд Тарсиса и суд над Синявским и Даниэлем, неизбежно смазывали и опровергали Друг друга, искажали газетно-ясную картину положения в СССР.
- Мистер Тарсис, почему вас выпустили в Англию, а Синявского с Даниэлем судят?
И что ему ответить? Дедушка Крылов ничего не сказал поэтому поводу. Получалось - или Синявский с Даниэлем действительно преступники, или Тарсис просто сумасшедший. Где ж западному человеку понять, что все в нашем государстве подчинено нуждам пропаганды и дезинформации. Не крыловские времена. Но и это уже не могло спасти их.
10 февраля 1966 начался суд - первый показательный процесс послесталинской эпохи, прообраз целой вереницы будущих процессов. Властям предстояло решить неразрешимую задачу: как законными средствами расправиться с людьми за их творчество и убеждения. Отступать было некуда - любое колебание, проявление мягкости навеки подчинило бы их общественному мнению.
Суд проходил, разумеется, при закрытых дверях, хоть и назывался открытым. В зал была пущена только специально подобранная публика по особым пропускам. Иностранным корреспондентам пропусков, конечно, не досталось. Зато советская пресса буквально бесновалась - чуть не каждый день во всех газетах статьи "Из зала суда". Хотите гласности? Нате, жрите ложками нашу советскую гласность. Хотите законности? Вот вам советская законность.
Но уже шли потоком протесты, петиции, открытые письма. Писали те, кто помнил Воркуту, Норильск и Караганду, Колыму и Джезказган, и те, кто не хотел потом приобрести воспоминания о таких местах. Рискованно было "не знать", опасно становилось "бояться".
А из рук в руки переходили десятки тысяч тонких листочков папиросной бумаги с еле различимым машинописным текстом - последние слова Синявского и Даниэля. Впервые на показательном политическом процессе обвиняемые не каялись, не признавали своей вины, не просили пощады. И это была наша гласность, наша победа.
Тем временем мои собственные дела все больше и больше запутывались. Врачи 13-й городской психбольницы, молодые честные ребята, отказались признать меня больным и свое заключение послали главному психиатру Москвы Янушевскому. Они не могли просто освободить меня, поскольку я был госпитализирован по распоряжению городского психиатра - как "социально опасный больной". Но в своем заключении они прозрачно намекали, что, поскольку медицинских показаний не усматривается, они затрудняются содержать меня дальше в своей больнице. Не являясь местом лишения свободы, она, к сожалению, не оборудована надлежащим образом, и они не берутся гарантировать мою изоляцию. Иными словами, они давали понять, что я и убежать могу, а они, со своей стороны, как-то не могут найти достаточных оснований удерживать меня от этого.
Действительно, убежать мне ничего не стоило. Санитары, сестры, фельдшера, и врачи относились ко мне с такой симпатией и пониманием, что сами открыли бы двери - только попроси. Да еще и такси бы вызвали, чтоб до дома доехать. Но побег немедленно был бы истолкован властями как доказательство моей "социальной опасности". Ленинград мне был бы гарантирован. Что ж, опять в Сибирь бежать? И я решил воевать до конца. По крайней мере, хорошее заключение больницы, где меня наблюдали целый месяц, давало мне шанс доказать свою вменяемость.
Самое умное для властей было бы просто меня выпустить, но идиотское упрямство и уверенность во всесилии подвели их еще раз. Получалось, что за нашу дерзкую демонстрацию никто фактически не наказан (других ребят уже выпустили к тому времени). И, следуя своей традиции бить одного, чтоб другие боялись, власти решили не выпускать меня ни за что. Сгноить по сумасшедшим домам.
В середине января меня срочно перевезли в другую больницу - № 5, в селе Троицком, километрах в 70 от Москвы. Надеялись, что в другой больнице врачи окажутся сговорчивее. Было у властей и другое соображение: к этому времени мое дело просочилось в западную печать, и они опасались, как бы не начали ко мне наведываться иностранные корреспонденты. Новая же больница, знаменитая "Столбовая", находилась за пределами дозволенной для иностранцев зоны.
Эта больница, построенная еще в начале века, предназначалась для принудительного лечения за всякие мелкие преступления: воровство, проституцию, спекуляцию, бродяжничество и прочие "нетипичные" поступки советских людей. Содержалось здесь по меньшей мере тысяч 12-15 пациентов. Большинство - действительно больные, хроники. Многие сидели тут чуть не всю жизнь, особенно те, у кого нет родственников или кого родственники отказались брать.
Слепой, с непомерно большой головой, точно огромный эмбрион, Егор просидел здесь всю свою жизнь с рождения. Было ему уже лет сорок.
- Ну, как дела, Егор? - спрашивали его весело, предвкушая забавный ответ.
- Ничего идут дела, голова еще цела, - отвечал он скрипучим голосом, как автомат.
Доживающие свой век паралитики с высунутыми языками, ленивые, медлительные, как тюлени, идиоты, тощие шизофреники, эпилептики с припадками каждый час - и, конечно, в каждом отделении небольшое сообщество здоровых, абсолютно нормальных людей, в основном московских воров: карманников, домушников, грабителей. Отправили меня туда "сгноить", "изолировать", подтвердить мою невменяемость и заслать потом в Ленинград. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает.
Попутчиком моим в психовозке оказался пожилой, бывалый московский вор Санька Каширов. С минуту он испытующе смотрел на меня и вдруг тихо спросил: - Лавешки есть?
- Есть немного, - ответил я так же тихо. - Давай сюда, а то у тебя зашмонают. На сегодня хватит, а завтра крутанемся как-нибудь, - деловито говорил он, запихивая мой червонец в спичечный коробок. - Я сапожник хороший, они меня там все знают. Без денег не будем.
Действительно, только привели нас к врачу в приемном отделении, она аж руками всплеснула:
- Саня! Опять к нам! Слушай, мне бы каблуки поправить. Туфли совсем новые, только купила. Ты надолго к нам? Ну, куда пойдешь - опять в 4б?
И тут только обратила внимание на меня. Но Саня, предвосхищая расспросы, сказал только: - Этот со мной. Тоже в 4б.
И даже не глядя в мое дело, не читая всех грозных инструкций КГБ и предписаний главного психиатра, она направила меня в четвертое "б" отделение. Ни осмотра, ни расспросов, ни шмона. Вот что значит дружить с хорошим сапожником.
- Так я зайду к вечеру, после дежурства. Занесу туфли, а, Саня? - кричала она нам вслед. - Ладно, - нехотя бросил Саня.
На отделении тоже, не успели нас завести, как сестры окружили моего Саню, словно долгожданного гостя, и наперебой принялись толковать ему про валенки, про туфли, шпильки и набойки. Саня был нарасхват. Хороший сапожник и вообще-то редкость теперь, а тут, за семьдесят километров от Москвы, и подавно. Не ездить же каждый раз в Москву туфли чинить да подшивать валенки ребятишкам.
Отделение было переполнено - человек двести. Спали на полу, на лавках и обеденных столах. Койки дожидались месяцами, в порядке живой очереди. В качестве наказания за какую-нибудь провинность врач мог лишить нарушителя койки как высшего блага, переводил на пол. Чтоб добраться до этой койки, давали санитарам взятки. Нам же сразу освободили две койки рядышком, да еще с тумбочкой - прогнали каких-то психов спать на пол в столовую. Даже сестра-хозяйка расщедрилась, выдала нам новенькие байковые пижамы, теплые коричневые халаты, тапочки. Словом, устроили по-царски, как интуристов в "Национале".
Община здоровых, человек восемь, состояла исключительно из матерых воров, сидевших здесь далёко не первый раз. Пока шли в научном мире споры о вялотекущей шизофрении, велись исследования и писались труды, московские жулики быстро разглядели ее выгоды. Чем лет пять париться по лагерям, валить лес да гнить по карцерам, куда как лучше отсидеть в дурдоме 6-8 месяцев. Судимость не засчитывается, прописка сохраняется, работать не нужно. Не жизнь, а малина. Все они когда-то побывали в лагерях и больше туда не рвались - пусть дураки лес пилят, работа дураков любит. Умному человеку достаточно было один раз попасть на экспертизу в больницу Кащенко, чтобы потом на всю жизнь обеспечить себе надежный диагноз. Некоторые из них сидели здесь уже по 10-12 раз (в лагере за то же самое пришлось бы отсидеть лет 50), освобождались, снова крали, опять садились и каждый раз словно домой возвращались в свое родное 46 отделение.
Отделение напоминало просто воровской притон. Упрашивать санитаров принести водки было не нужно - сами спрашивали, не сбегать ли. Лишь бы деньги были. Стакан - санитару, остальное себе, В первый же вечер мы с Санькой пустили в оборот мой червонец, и я с непривычки после двух стаканов водки совершенно осовел. Меня заботливо уложили санитары в постель, чтоб не заметил дежурный врач во время обхода, а сами побежали в магазин за новой порцией. И так у них шло каждый день. С утра - похмелялись, в обед - пили, к вечеру - напивались. Такая карусель.
Однажды пропились вдрызг. Ни копейки не осталось даже у санитаров. И в долг никто больше не дает. Как быть? Тут один карманник предложил санитарам:
- Отпустите меня на часок. Проедусь только на автобусе от больницы до станции и обратно, и будем с деньгами.
Сказано - сделано. Переодели его в нормальную одежду, а один санитар поехал с ним на всякий случай - отмазать, если попадется: дескать, сумасшедшего везу в больницу, не обращайте на него внимания. Действительно, через часок вернулись оба с двадцатью пятью рублями. И опять пошел пир горой.
Мой попутчик, вор-сапожник Санька, жаловался мне как-то, что нигде не выходит у него бросить пьянку. При его сапожном ремесле трудно не пить. На воле, куда ни устроишься работать, всюду пьют как лошади. Разве удержишься! Думал хоть тут отдохнуть - и на тебе! И попался-то он спьяну за карманную кражу, очень этого стыдился - настоящей его специальностью были кражи квартирные.
Убежать отсюда ничего не стоило - вернее, стоило ровно тридцать рублей. Плати санитару - отопрет дверь да еще на автобус проводит. Раз даже безногий убежал, на костылях. Конечно, врачи не могли не знать, что творится. Время от времени кто-нибудь попадался пьяный на глаза дежурному врачу, и тогда в качестве наказания его переводили на "буйное отделение", к врачу Позднякову, известному своим садизмом. У того было два излюбленных приема: "три на пять" и "галифе". "Три на пять" - это три укола сульфазина по 5 кубиков каждый, два в ягодицы и один под лопатку. После такой процедуры наказанный чувствовал себя словно на кресте распятым - ни рукой, ни ногой пошевелить нельзя от боли. И температура 41°. "Галифе" называлась процедура накачивания физраствора в ляжки, от чего они раздувались действительно, как галифе. Боль адская, и ходить невозможно. Какой уж это имело психиатрический смысл - не знаю. Укруток Поздняков не делал - наверно, считал хлопотным.
Но даже угроза такого свирепого наказания не могла удержать моих жуликов от пьянства. Впрочем, они попадались редко. Никто из санитаров и сестер в этом заинтересован не был, и они всегда прятали пьяных.
В остальном же врачи старались делать вид, что ничего не знают. Все были связаны круговой порукой. Обслуживающий персонал крал из больницы все, что можно было унести, особенно казенные продукты. Практически все врачи, сестры и санитары кормились от этой больницы. Все село Троицкое жило ею. Продукты разворовывались настолько, что питаться казенной пищей было невозможно, - ее отдавали тем, у кого не было родственников. Сами же ели принесенное из дому, благо на передачи ограничений не было. Село Троицкое считало больницу своим подсобным хозяйством.
Днем обычно здоровые собирались в столовой, а психов выгоняли в коридор, чтоб не мешали. В столовой был телевизор. Там же играли в картишки и пили. На психов вообще почти не обращали внимания, разве что попадался какой-нибудь забавный сумасшедший, которого интересно было дразнить.
Я, конечно, сразу стал наводить справки, нельзя ли достать приемник. Оказалось, это очень просто сделать. В каком-то другом отделении был комбайн - телевизор с приемником, и санитары быстренько договорились об обмене его на наш телевизор.
Каждое утро, когда мы усаживались завтракать в столовой, я ловил Би-Би-Си, и, пока идиоты глотали кашу, эпилептики бились в судорогах, а шизофреники неподвижно сидели над мисками, уставясь в пространство невидящим взглядом, мы слушали новости из Лондона. Письма и протесты по делу Синявского и Даниэля, стенограмма самого суда, интервью и заявления Тарсиса в Лондоне... Жулики мои только головами качали - ну, дела! Особенно же стали прислушиваться после того, как несколько раз промелькнуло и мое имя. Теперь мне даже не нужно было самому беспокоиться включить радио вовремя - санитары включали его, и все затихали.
Ну, чем не символическая картина нашего славного отечества! Огромный сумасшедший дом, где все разворовано до последней картофелины, где всем распоряжается горстка "здоровых" детин - спившиеся жулики, предпочитающие прикидываться шизофрениками. Сидим и слушаем, что нам из Лондона расскажут о нашей жизни. - Как дела, Егор?
- Ничего идут дела. Голова еще цела.
Мой врач, Бологов, не был человеком смелым или принципиальным. Просто после заключения предыдущей больницы о том, что я здоров, ему было легче подтвердить, чем опровергнуть это заключение. Недели три он присматривался ко мне, пару раз вызывал на беседу. Конечно, он знал, что я пью с санитарами, общаюсь с жуликами, и это было для него лучшим доказательством моей вменяемости - ни те, ни другие не стали бы со мной общаться при малейших признаках ненормальности. В сущности, никаких сомнений в моем здоровье у него не было с самого начала, а опыт 13-й больницы показывал, что подать такое заключение не опасно, не приведет к крушению карьеры. И он написал в заключении, что не считает меня больным. Еще раз власти имели возможность освободить меня без лишнего шума и опять ею не воспользовались, а вместо этого неожиданно, в середине февраля, перевезли меня в Институт Сербского.
Но теперь уже и Институт Сербского ничего поделать не мог: две больницы, одна за другой, признали меня здоровым. К тому же, благодаря выступлениям Тарсиса, мое дело стало приобретать широкую огласку за рубежом, и Институт Сербского предпочел "воздержаться". Была в моем деле одна юридическая сложность, которой они и воспользовались. Формально я не был арестованным, обвиняемым или хотя бы подозреваемым - против меня не было возбуждено уголовного дела. Поэтому, с юридической точки зрения, Институт судебной психиатрии не мог меня экспертировать. Не мог обсуждаться вопрос "вменяемости", поскольку я ни в чем не обвинялся. Таким образом, формально не отказываясь от экспертизы, Институт Сербского просто запросил в КГБ обвинительные материалы против меня для изучения и решения вопроса о вменяемости. В КГБ же, сколько ни крутились, представить ничего не могли - они не были готовы к такому повороту событий. Слишком понадеялись на свое всесилие и мое очевидное сумасшествие.
Спор, по существу, опять сводился к вопросу о диагнозе. В 1963 году у меня было два диагноза: психопатия и шизофрения под вопросом. Ленинградская больница шизофрению отвергла и выписала меня как психопата. Теперь две больницы отрицали наличие у меня шизофрении. К этому же склонялся и Институт Сербского, что позволяло ему фактически не оказаться в противоречии со своим прежним диагнозом: психопатию никто сейчас не оспаривал, она никого не интересовала. Шизофрению же они и тогда ставили под вопросом. Если бы, однако, удалось опровергнуть заключение Ленинградской больницы и вернуть мне диагноз "шизофрения", получилось бы, что ленинградцы неправильно меня выписали. Это дало бы основание вернуть меня в спецбольницу по старому делу, не возбуждая нового, - как больного, которого просто неверно лечили и оттого не вылечили до конца. Только так смог бы КГБ выпутаться из этого неприятного дела, и оправдать свои незаконные действия.
Тут уж и моя мать забеспокоилась всерьез и, преодолев свою робость, стала писать во все концы жалобы. Из всех инстанций прокуратуры ей отвечали в безмятежном тоне, что все законно и оснований для жалоб нет. Собственно, для таких ответов и существует у нас в стране прокуратура.
Я думаю, именно тогда произошло у матери стремительное пробуждение - то самое, которое возникает у трудящихся при непосредственном столкновении с родной властью. По-видимому, ни в какой коммунизм она не верила и до этого, как и большинство людей, но дело здесь не только в идеологии. Просто она, не отличаясь в этом от многих, переживших десятилетия советского террора, выработала в себе спасительную покорность и привычку не выделяться. Привычку даже себе самой не признаваться в своем действительном отношении к окружающему. С работы - домой, из дома - на работу. Главное - не оглядываться по сторонам, не смотреть недоуменно, а то вдруг вызовут и спросят: чего оглядываешься? Не нравится? И что тогда отвечать? Постепенно так втягивается человек в эту жизнь, что и сам не может разобраться, какие мысли у него припасены в голове для внешнего пользования, а какие - для внутреннего. И если долгое время заставлять себя всему радоваться, то понемногу привыкает человек считать это окружающее нормальным, а миллион раз повторенные пропагандой лозунги вдруг становятся частью твоего сознания.
Ко всему привыкает человек, свыкается с любой потерей, с любой нелепостью. Но есть в человеке какая-то пружинка, какой-то предел допустимой эластичности, после которого все летит к черту. Перестает человек верить в происходящее.
Одна моя знакомая, мужа которой уже много лет без всякой вины преследовали, сажали в концлагерь, не давали работать, получила повестку явиться в милицию. - Не бери паспорт, - говорят ей друзья. - Почему?
- Ну, возьмут и вычеркнут прописку. И останешься без крыши над головой, - объясняют ей.
- Как? - говорит она изумленно. - А где же справедливость?
Нечто подобное произошло и с моей матерью. Где же справедливость? Арестовывать не арестовывают, обвинять не обвиняют, болезни не находят, лечить не лечат, а держат в заключении вот уже скоро полгода. И еще пишут, что нет оснований жаловаться!
Постепенно свирепея от наглых ответов на жалобы, она добралась до самых высоких инстанций, стала добиваться приемов у начальников и буквально орать на них. Ну, в самом деле, где же пределы? Что черное - это белое, мы уже привыкли. Что красное - это зеленое, нас убедили. Что голубое - это фиолетовое мы сами согласились, черт с ним! Но теперь еще и синее - это не синее, а желтое? Хватит!
Оказалось, однако, что не она одна впала в исступление от этой цветовой музыки. Мой старый знакомый, начальник московского КГБ генерал Светличный, тоже бесновался. И действительно - где же логика? Что черное - это белое, доказали еще в 17-м. Что красное - это зеленое, стало очевидно еще в 37-м. Что голубое - это фиолетовое, все убедились при Хрущеве. И после всего этого не хотят понять, что синее - это желтое! Где же справедливость?
Случилось так, что именно к нему на прием попала моя мать. В роскошном особняке графа Ростопчина, с высокими лепными потолками, коврами и золочеными дверьми, где мерещились мне когда-то изящные дамы в кринолинах и господа в пудреных париках, состоялся этот разговор двух жаждущих справедливости.
- Все, больше он не выйдет! - рычал злой головастый карлик, исступленно топая ногами по графскому паркету. - Сгною по сумасшедшим домам! Хватит!
И это был единственный откровенный ответ за все время. Дальше опять шли бесконечные бумажки: "Все законно. Никаких оснований для жалоб нет".
Тем временем я продолжал сидеть в Институте Сербского и ждать, чем же кончится это странное дело. Даже сам профессор Лунц - всесильный Лунц, загнавший в сумасшедшие дома по приказу КГБ не одну тысячу здоровых людей, - был в недоумении и меня же спрашивал с любопытством: - Ну, что же с вами дальше будет?
В его практике это тоже был первый случай, когда он ничем не мог услужить своим хозяевам, и создавшаяся ситуация забавляла его.
Даниил Романович Лунц любил побеседовать с начитанным больным о философии, о литературе, особенно если разговор происходил в присутствии коллег. Приятно было блеснуть эрудицией, цитируя на память таких авторов, о которых современный советский человек или вообще никогда не слышал, или, в лучшем случае, мог прочесть в "Философском словаре"; "Буржуазный идеалист, реакционный мыслитель такого-то века. В своих трудах выражал интересы эксплуататорских классов". Для его молодых коллег такая эрудиция граничила с фантастикой, создавала ему непререкаемый авторитет.
Для него же это не составляло труда. Родившись в профессорской, высокоинтеллигентной семье, он воспитывался на этих книгах. Юность его припала на сумасшедшее время, когда любой малограмотный пролетарий, еле-еле осиливший "Коммунистический манифест", становился "красным профессором". Знания профессорского отпрыска никому не были нужны, и он от души презирал всех этих "кухаркиных детей", пришедших править государством и одержимых "сверхценными" идеями. Будто какой-то шутник открыл вдруг двери сумасшедших домов и пустил параноиков распоряжаться страной. И они, напялив маскарадные кожаные одежды, размахивали теперь маузерами под носом обывателей.
Однако он слишком хорошо понимал, как опасно противоречить параноику, да еще вооруженному. Поэтому, следуя лучшим традициям русской психиатрической школы, он умело "включился" в этот бред и выглядел таким ортодоксом, что даже его собственные родители опасались говорить при нем откровенно.
Чем дальше, тем больше крутели времена, исчезали буйные головы в водовороте событий, и глядишь - вчерашних "красных профессоров" уже гнали в Сибирь валить лес и строить дороги. Он же все рос да рос и уж совсем, видимо, стал считать себя неуязвимым, как вдруг в один миг оказался на краю пропасти. Шел 53-й год, и внезапно оказалось, что он всего лишь еврей, исчадие прокаженного племени врагов и вредителей, которое надлежало по высочайшему повелению переселить в края вечной мерзлоты. Видно, никогда потом не мог он уже забыть этих нескольких месяцев предсмертного страха, когда, отстраненный от работы, ошельмованный и проклятый, дрожал он в своей квартире, ожидая неизбежного ночного стука в дверь.
Миновала опасность, вернулись должности и чины, стало даже возможно без риска блеснуть обширными философскими знаниями, но уже до конца жизни не мог он избавиться от какой-то подобострастной суетливости и потливой дрожи в руках, когда вызывали его туда. По роду работы вызывали его часто - запросто, как своего человека, подчеркивали доверие, уважение, и это доставляло даже какое-то тайное наслаждение, пробуждало неодолимое желание блеснуть, угадать с полуслова, а то и вовсе без слов, и уж сделать, так сделать - не подкопаешься.
Действительно, ценили его за тонкость, за интеллигентность. Мало ли как извивается генеральная линия партии: вчера ленинцы сажали сталинцев, завтра - наоборот, и каждый раз жди комиссий, расследований. При Лунце же можно было спать спокойно. Он никогда не халтурил - не то, что другие. Чего проще - подобрал "свою" комиссию и штампуй любой диагноз, ума не надо. И глядишь - вчерашний политкомиссар получил диагноз врожденного идиотизма, а безупречный в прошлом партийный работник - алкоголизм III степени. Так и жди беды. Лунц же умел так подобрать диагноз к особенностям человека, такие фактики раскопать, так психологически подготовить своего подопечного, что хоть международной комиссии показывай.
Конечно же, он не признавал теорию Снежневского, для которого все - шизофреники, в крайнем случае "вялотекущие", то есть такие, что шизофрению у них может обнаружить один Снежневский. В этой теории Лунц вполне справедливо усматривал угрозу своему положению "чистых дел мастера". Кому он нужен со своими тонкостями, если любой человек - шизофреник, стоит только показать его Снежневскому?
Разумеется, не знал я тогда всех этих подробностей, а только много раз по вечерам, рассуждая с ним о Бергсоне, Ницше или Фрейде в его кабинете, под литографией с изображением великого французского гуманиста Пинеля, освобождающего душевнобольных от цепей, я терялся в догадках: зачем он на меня время тратит? Ведь сам же говорит, что не назначен в этот раз быть моим экспертом, - не судебное у меня дело. От скуки, что ли? Внешне, своими толстыми выпуклыми очками и непомерно широким ртом, напоминал он огромную жабу, особенно когда под конец наших философских бесед вдруг задумчиво квакал: "Интересно, что с вами дальше-то будет?" Словно мы весь вечер только об этом и говорили. Про себя же думал, наверное: "Как это они рассчитывают без меня выкрутиться? Может, позовут еще?"
Весной наконец прислали по распоряжению ЦК "нейтральную" комиссию из четырех профессоров - решать мой запутанный вопрос. КГБ просто пошел по самому легкому пути и добился включения в эту комиссию двоих сторонников Снежневского - Морозова и Ротштейна. Лунц, хотя в комиссии не был, на заседании присутствовал и свое мнение высказал. Меня вызвали всего минут на пять, и я, конечно, постарался не дать им никаких "симптомов". Но это их почти не интересовало - основной спор шел у них о вопросах теоретических, имевших ко мне только косвенное отношение.
Как и следовало ожидать, голоса разделились поровну. Два профессора находили у меня "вялотекущую шизофрению", два - не находили.
Опять была полная неясность в будущем. Снова Лунц с любопытством поглядывал на меня - что-то со мной дальше будет? Так досидел я до лета.
Не знаю действительно, чем бы это все тогда кончилось, - может, так бы и сидел в Институте Сербского до сих пор. Скорее всего, конечно, прислали бы еще одну комиссию, уже целиком состоящую из сторонников "вялотекущей шизофрении", и сейчас то, что осталось бы от меня, находилось бы где-нибудь в Ленинграде или, с глаз подальше, в одной из открытых за это время провинциальных спецбольниц. Но дело успело приобрести слишком широкую огласку.
По поручению "Международной Амнистии" в Москву приехал английский юрист г-н Эллман и обратился к директору Института Сербского Морозову с просьбой принять его. Он также просил о встрече со мной... Не знаю, что думал во время этой беседы г-н Эллман, ход же рассуждений Морозова легко себе представить.
Он почему-то вовсе не удивился, что какой-то иностранец требует у него отчета, даже не счел это "вмешательством во внутренние дела".
- Буковский? - переспросил он, наморщив лоб. - Не помню. Надо посмотреть, есть ли у нас такой больной, - и принялся перебирать бумажки на столе. - Ах да, правда. У него нашли шизофрению, но лечение ему очень помогло. Мы его скоро выпишем.
Так внезапно прервался восьмимесячный научный спор о моем психическом состоянии. Ни справок, ни объяснений, ни извинений. Помилуйте, кто вас держал? Это вам просто померещилось.
И только еще месяца три после моего освобождения продолжали приходить матери из различных инстанций прокуратуры запоздалые ответы: "Оснований для жалоб не усмотрено. Следствие проводится с соблюдением всех правовых норм. Ваш сын изолирован в соответствии с законом".
И, глядя на привычно суетливую Москву, я не мог избавиться от ощущения нереальности. Воистину мы рождены, чтоб Кафку сделать былью.
А через полгода я опять был в тюрьме, в своем родном Лефортове с его призраками совести и вечными ночными муками. Всего-то полгодика удалось мне продержаться на воле - шесть месяцев отчаянной гонки: скорее, скорее, успеть как можно больше, пока не взяли. И опять, перебирая в уме эти полгода, я досадовал на свою медлительность и неповоротливость.
После истории Тарсиса и дела Синявского и Даниэля Запад впервые заинтересовался реальным положением вещей у нас. Приоткрылся лишь самый краешек завесы, но даже это немногое вызвало шторм возмущения. Что же будет, если они увидят все?
Нельзя было дать заглохнуть этому интересу, утихнуть возмущению, позволить снова опуститься железному занавесу глухоты. Впервые мы воочию убедились в силе гласности, видели страх и растерянность властей. И пусть пока что возобладали высокомерие и упрямство - ущерб властям был нанесен колоссальный. Надолго ли хватит им этой саморазрушительной наглости?
Впервые и у нас, в нашем мертвом обществе, возникал зародыш общественного мнения. На наших глазах начиналось движение в защиту прав гражданина. И - надо было спешить, не дать ему заглохнуть.
Однако и власти не оставили своих намерений возродить то, что принято называть сталинизмом. Видимо, стремясь отыграться за свою неудачу, а главное - припугнуть осмелевших граждан, они срочно "готовили новые репрессии.
Наша декабрьская демонстрация застала их врасплох: Уголовный кодекс не предусматривал наказания за такие демонстрации. Прецедента не было с 27-го года, и никого из участников не могли придумать, как судить. Была, конечно, статья о массовых беспорядках, по которой судили участников восстаний, но применить ее к такой демонстрации было бы чересчур даже для нашей "закон - что дышло" юстиции. Исправляя свою оплошность, власти специальным Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1966-го ввели статью 190-3.
Вполне в духе советского лицемерия статья даже не упоминала слово "демонстрация", а говорилось в ней об "организации или активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, или сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, или повлекших нарушение работы транспорта, государственных, общественных учреждений или предприятий". Поди докажи, что в СССР запрещены свободные демонстрации! Ложь, клевета! Запрещены только грубые групповые нарушения порядка. И в то же время любой советский человек, привычный к поворотам дышла закона, отлично понимал, куда целит эта статья. По ней не только демонстрации становились преступлением, но и забастовки ("нарушение работы государственных, общественных учреждений или предприятий"). За все за это полагалось три года заключения.
Одновременно тем же указом вводилась статья 190-1, предусматривающая три года лагерей за "систематическое распространение в устной форме заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно изготовление или распространение в письменной, печатной или иной форме произведений такого же содержания".
Формально отличие этой новой статьи от ст. 70 - "агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления Советской власти, распространение в тех же целях клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно распространение, либо изготовление или хранение в тех же целях литературы такого же содержания" - заключалось в умысле. По 70-й обязателен умысел на подрыв или ослабление Советской власти; по 190-1 - умысла не требовалось, и круг возможных преследований расширялся. А внешне опять все было вполне благопристойно: запрещалась не свобода слова или печати, а только клевета - в каком же государстве дозволено клеветать?
Но и здесь привычный к произволу и лицемерию советский человек вполне справедливо усматривал реакцию на разрастающийся самиздат и на распустившиеся языки. Клеветой же будет объявлено все, что властям не нравится. Иди спорь с ними потом.
Законодательство СССР не признает такой категории, как политическое преступление ("политзаключенных у нас нет!"), и такие преступления, как измена, агитация, диверсия и т. п., отнесены в раздел "Особо опасные государственные преступления". Однако осужденные по этим статьям содержатся отдельно от уголовников, в специальных концлагерях. Осужденных же по новым статьям предполагали держать в обычных уголовных лагерях, и даже следствие по этим делам должна была вести прокуратура, а не КГБ. Всем этим еще раз подчеркивалось, что статьи не содержат в себе ничего "политического".
Все это типичное лицемерие существенно затрудняло кампанию протеста против новых статей. Получался замкнутый круг. Явно покушаясь на конституционные свободы, формально статьи Конституции не противоречили - прямо утверждать, что они антиконституционные, было сложно. Уже такое утверждение было бы расценено как клевета. Доказать, что сами намерения властей, вводивших эти статьи, антиконституционны, можно было только после того, как станет ясна практика их применения. И то у властей каждый раз останется возможность утверждать, что нельзя обобщать отдельные случаи.
Однако статьи эти обеспокоили всех настолько, что группа писателей, академиков и старых большевиков обратилась в Верховный Совет с просьбой не принимать эту поправку к Уголовному кодексу, В числе подписавших это письмо были даже такие известные люди, как композитор Шостакович, академики Астауров, Энгельгардт, Тамм, Леонтович, кинорежиссер Ромм, писатели Каверин и Войнович. Тогда же впервые появилась подпись А. Д. Сахарова.
Письмо было составлено в осторожных выражениях и указывало лишь, что эти новые статьи "противоречат ленинским принципам социалистической демократии", "допускают возможность субъективной оценки, произвольного квалифицирования высказываний" и могут быть "препятствием к осуществлению свобод, гарантированных Конституцией". Ответа никто из подписавших не получил, и в конце декабря 1966 Указ был утвержден Верховным Советом.
5 декабря, в годовщину первой демонстрации, опять прошел "митинг гласности" на Пушкинской площади. Несколько десятков человек, собравшись там к шести часам вечера, просто сняли шапки и молча простояли минут пять. Так решили собираться каждый год, чтобы почтить память жертв произвола. Власти реагировали нервно, пытались разгонять собравшихся, однако никто арестован не был.
Трудно сейчас вспомнить все, что мы делали тогда. Зарождалось то удивительное содружество, впоследствии названное "движением", где не было руководителей и руководимых, не распределялись роли, никого не втягивали и не агитировали. Но при полном отсутствии организационных форм деятельность этого содружества была поразительно слаженной. Со стороны не понять, как это происходит. КГБ по старинке все искал лидеров да заговоры, тайники и конспиративные квартиры и каждый раз, арестовав очередного "лидера", с удивлением обнаруживал, что движение от этого не ослабло, а часто и усилилось.
Так же вот и исследователи мозга долгое время считали, что мозг содержит специальные командные центры, иерархическую структуру управления, - но всякий раз, удалив очередной "центр", с удивлением констатировали, что совершенно другой "центр" вдруг "берет на себя" его функции и ничего по существу не меняется. Со стороны кажется, что клетки мозга заняты совершенно лишней, нелепой работой, дублируя друг друга в осуществлении одной и той же функции. Гораздо рациональней кажутся специализация, подчинение, приказы и директивы. Вроде бы больше порядку. Но нет, неприемлем такой принцип для живого организма. И каждый из нас, подобно нервной клетке, участвовал в этом удивительном оркестре без дирижера, понуждаемый лишь чувством собственного достоинства и личной ответственности за происходящее.
Мы не играли в политику, не сочиняли программ "освобождения народа", не создавали союзов "меча и орала". Нашим единственным оружием была гласность. Не пропаганда, а гласность, чтобы никто не мог сказать потом - "я не знал". Остальное - дело совести каждого. И победы мы не ждали - не могло быть ни малейшей надежды на победу. Но каждый хотел иметь право сказать своим потомкам: "Я сделал все, что мог. Я был гражданином, добивался законности и никогда не шел против своей совести". Шла не политическая борьба, а борьба живого против мертвого, естественного с искусственным.
Никто не "поручал" Гинзбургу собирать материалы процесса Синявского и Даниэля (так называемую "Белую книгу"), а Галанскову - литературный сборник "Феникс-66". никто не заставлял Дашкову все это печатать, а нас с Витькой Хаустовым - устраивать демонстрацию, когда их арестовали.
Удивительно здорово это описано у Метерлинка в "Жизни пчел", когда вся сложная жизнь улья внешне кажется подчиненной какому-то уставу. Но нет в ней приказов или регламентов, и каждая пчела, повинуясь внутреннему импульсу, то летит за медом, то строит соты, то охраняет вход. Постороннему наблюдателю кажется, что всем управляет матка, но убей ее - и пчелы тут же выкормят новую, не оставляя своей работы. Вот одна из пчел сообщила о новых полях, богатых нектаром, и тут же десятки ее соседок летят за нектаром. Как они определили, кому лететь, а кому оставаться?
Аресты следовали один за другим, по нарастающей. Сначала был взят Радзиевский, потом, 17 января, - Пашкова и Галансков, 19-го - Добровольский, еще через несколько дней - Гинзбург, и это не случайно. Расчет был запугать, чтобы каждый думал: не я ли следующий? Чтоб сидели по углам, запершись на все замки, и шептали молитвенно: Господи, пронеси!
Может, именно от этого неудержимо захотелось вдруг выйти вперед и крикнуть:
- Вот он я! Берите - я следующий. Вас никто не боится. Но это было не главное. Главное - когда забирают твоих друзей, а ты ничего не можешь сделать. Словно рассудок теряешь от сознания своего бессилия. Насколько же легче било всем этим революционерам; у них в такие минуты был выход - стрелять или бомбы бросать. Скверно оставаться на воле, когда твои друзья в тюрьме.
И еще было горькое чувство, обида за ребят. Небось когда арестовали известных писателей, весь мир взбаламутился. Теперь этого ждать не приходилось. Кого волнуют аресты какой-то машинистки да подсобных рабочих? Луи Арагону можно не возмутиться. Ну, так мы вас заставим говорить!
Всего два дня оставалось на организацию демонстрации, и распространять обращение, как в прошлый раз, было некогда. Мы с Витькой просто обошли своих знакомых - человек тридцать. Решили, что больше нам и не нужно. Зато лозунги изготовили добротно, на материи. И даже прибили к ним палки. В день демонстрации, 22 января, собралось у меня на квартире десятка два ребят. Еще две группы должны были ехать из других мест.
Разговоров было мало - все делалось молча. Каждый понимал, что так легко, как в прошлый раз, мы уже не отделаемся. Кому-то предстоит идти в тюрьму. Мы с Хаустовым брали все на себя как организаторы, но кто мог предсказать - возможно, заберут всех. Статья была новая, никто еще не сидел по ней.
Говорил, пожалуй, один Алик Вольпин. Он был на этот раз против демонстрации. Особенно против лозунгов. В этот раз мы требовали не гласности суда, а просто свободы арестованным ребятам. Да еще был лозунг: "Требуем пересмотра антиконституционного указа и ст. 70 УК". Конечно же, Алик возражал против слова "антиконституционный" - текст введенных новым указом статей формально Конституции не противоречил. - Ну, что ж, - сказал я, - вот и посмотрим, с какими намерениями этот указ принят. Проведем юридический эксперимент. Если он не антиконституционный - нас и не арестуют.
Еще раз прочли текст статьи 190-3. Все было ясно: общественный порядок не нарушать, представителям власти не сопротивляться, если потребуют отдать лозунги - отдать немедленно, будут забирать - идти спокойно. Работу транспорта или учреждений нарушить мы никак не могли: Пушкинская площадь в этом смысле идеальное место. Решили ничего не выкрикивать - хватит и лозунгов. Вольпин пытался еще что-то писать, какие-то инструкции на случай ареста, но это уже было никому не нужно. - Ладно, все и так ясно, - сказал Андрей. - Не суетись, старик, - сказала Юлька. Собственно, инструктаж этот был мне нужен для суда. Все присутствующие засвидетельствовали бы, что у нас не было намерения нарушить статью 190-3, и возникал еще один юридический аргумент - отсутствие умысла.
К шести часам поехали на площадь - из трех разных мест. От меня троллейбусом минут десять. Ехали молча. В каждом чувствовалась угрюмая решимость, словно у летчика, который идет на таран. За нами, в некотором отдалении, - гебешники. Весь день они не отходили ни на шаг.
Мороз был лютый - градусов под тридцать, и оттого свет фонарей, памятник Пушкину и огни в окнах казались отчетливей и резче - декоративней. Прохожих мало.
Лозунги привезли под пальто, три штуки - и больше всего боялись, что не успеем развернуть. Но никто не мешал нам. Вокруг было пусто, словно все вымерзло.
Мы с Андреем взяли один, Витька Хаустов с Вадимом Делоне - второй, Борис с Юлькой Вишневской - третий. И вся толпа, человек сорок, моментально переместилась вперед, лицом к нам, растянувшись полукольцом. - Повыше, не видно, - сказал кто-то негромко. И мы подняли на вытянутые руки три белых полотнища с синими буквами, отчетливо видные в морозном воздухе.
Высокая, закутанная с ног до головы фигура приблизилась к толпе и стала с краю.
- Ага, стукач... - сказала Юлька злорадно. - Да нет, это Боря Ефимов...
И на секунду мне стало страшно - вдруг ничего не будет? Расчет строился на том, что лозунги отнимут, а нас заберут. Не везти же их назад, домой. Я вообще не предполагал домой возвращаться.
Но тут наконец словно вызванные моими страхами, вынырнули справа из темноты и бегом, с криками бросились к нам человек пять. Ни формы, ни повязок. Морды красные от мороза.
- Всякую гадость развесили!
- Глаз выбью, гад!..
...Представители власти, с законными требованиями... Один рванул за середину наш с Андреем лозунг, и мы тотчас же отпустили палки. А слева, там, где были Витька с Вадимом, слышался треск рвущейся материи и какая-то возня. Вадим отпустил свой конец, Витька же продолжал держать, и "представитель власти" никак не мог отодрать материю от палки. Этот лозунг мы делали с Витькой сами и прибили добросовестно, профессионально. Витька работал обойщиком мебели, и у него были какие-то специальные гвозди. Маленькие, граненые, с широкими шляпками. Прибивая материю, он держал их во рту и очень ловко вколачивал двумя ударами молотка. Наконец трое повалили его и стали крутить руки. - Витька, не сопротивляйся, - крикнул я, - спокойно, не сопротивляйся!
Он затих, и его быстро утащили с площади. Толпа смешалась, все заговорили, задвигались, столько тут я увидел, что еще один парень стоит с лозунгом под мышкой и держит за руки Бориса с Юлькой. Ребята стояли спокойные, готовые идти, куда им прикажут, но парень остался один и был в нерешительности. Молодой, младше меня. Он был смущен, растерян, и чувствовалось, что ему страшно неловко. Он ждал, что мы его оттесним от своих и тогда он уйдет со спокойной совестью. Его же, наоборот, приняли за своего, и кто-то из толпы советовал: - Спрячь лозунг под пальто, а то сейчас вернутся... - Уходи, уходи, пока никого нет.
Секунду он колебался, потом бросил ребят и быстро, не оглядываясь, зашагал прочь.
Все было кончено. Вдруг стало холодно и неуютно. - Пошли, - сказал я. - Мы свое сделали. Пошли, согреемся где-нибудь.
И человек десять вместе со мной медленно потянулись к троллейбусной остановке. Толпа разбилась на кучки, все оживленно обсуждали происшедшее.
- Что случилось, что тут было? - спрашивали случайные прохожие.
Уже гораздо позже, без меня, вернулись оперативники и забрали Вадика Делоне и Женьку Кушева, которому вдруг пришло в голову крикнуть: "Долой диктатуру! Свободу Добровольскому!" Делоне выпустили, а Кушева увезли в Лефортово. Илью Габая задержали два милиционера по приказу КГБ, но и его выпустили, записав фамилию.
Тысячи раз потом повторялись эти подробности свидетелями, следователями, прокурорами, судьями, адвокатами, искажались умышленно, перевирались случайно, пока, наконец, не осели дубовыми фразами приговоров, процеженные через судебную процедуру.
Власти, видимо, сами не знали, что с нами делать. Вадика арестовали только через три дня, меня и Габая - через четыре, И вновь потянулись дни в Лефортове, допросы, наседки. Подъем, завтрак, прогулка, обед, ужин, отбой, подъем, завтрак, прогулка, обед, ужин, отбой... - Соберитесь в баню. - Как, опять баня? Неужели неделя прошла?
Политическое следствие в СССР - процедура совершенно особая, ни в какие кодексы не укладывающаяся. Не случайно самый лучший следователь КГБ профессионально не способен вести обычное уголовное дело и даже пустячную карманную кражу не сможет раскрыть как следует. В уголовной практике дело возникает при совершении преступления. Допустим, произошло убийство - это и есть основание для возбуждения дела. Так это и называется - дело об убийстве гражданина такого-то. Следствие изучает обстоятельства убийства, личность убитого, его связи и взаимоотношения с окружающими, перебирает возможных убийц, исследует их отношения с убитым. Наконец, если повезет, убийцу находят, собирают доказательства его причастности к преступлению, отпечатки пальцев, следы крови и т.п. Если доказательств недостаточно - его оставляют в покое, ищут другого возможного убийцу. Не нашли - дело об убийстве так и остается нераскрытым. Но всё в таком деле на своем месте: свидетели - только свидетели, подозреваемый в убийстве подозревается только в убийстве, следователь - просто следователь, адвокат - просто адвокат.
В политическом следствии дело заводится на человека, ибо, по мнению КГБ и партийного начальства, его пора сажать. Скопились какие-то доносы о его высказываниях, намерениях, контактах, влиянии на окружающих, о том, что он кому-то мешает или, наоборот, отказывается помочь, слишком много знает и болтает об этом или, напротив, ничего знать не хочет. Словом, пора сажать человека, созрел. А еще чаще - созрел для посадки целый круг людей, надо их приструнить: кого-то посадить, кого-то взять на крюк. Поэтому из такого круга сначала выбирают человека или наиболее уязвимого, способного сломаться, склонного к компромиссам. или, наоборот, такого, что его арест произведет на весь круг наибольшее впечатление. Или даже того, кто действовал меньше других, чтобы навалить на всех ответственность: "Вот, вам ничего, а он (или она) сидит...", "Втянули человека в ваши Дела, теперь он за вас расплачивается". Или берут вокруг кого-то очень активного, надеясь внушить подозрения, что он-то, остающийся на свободе, сотрудничает с КГБ. Есть, конечно, случаи исключительные, когда арест форсируется неожиданным происшествием, вроде нашей демонстрации, но само следствие и в этих случаях идет по обычным законам, сформулированным известной фразой: "Был бы человек, а статья найдется". Кстати, о статье. Если человека арестовывают по уголовному делу, его же не обвиняют в убийстве вообще, воровстве вообще или мошенничестве как таковом, но в убийстве кого-то, воровстве чего-то или конкретных случаях мошенничества. По политической статье обвинение запросто дается по формулировке статьи, а факты подбираются вовремя следствия: что удастся подтвердить показаниями, признанием, материалами обысков, то потом и войдет в обвинительное заключение. А то еще бывает, арестовывают или обыскивают перед арестом под самым неожиданным предлогом: подготовка к покушению на Генерального секретаря ЦК КПСС или неуплата алиментов брошенной семье, попытка убежать за границу или подготовка к ограблению банка. Просто берут самый красочный из доносов на этого голубчика и представляют в партийные инстанции (без них ни один арест не происходит):
- Видите, что за человек! До чего докатился! Давно пора сажать. И пропаганду разводит, и взятки берет, и с женой подрался. Вот и возьмем его пока за драку с женой, а там видно будет.
И начинается дело о гражданине Н. Ведет его не один следователь, а целая бригада, и день за днем, час за часом перебирают они всю жизнь гражданина Н - не может же быть, чтобы этот гражданин никогда ничего "такого" не совершил, нет у нас таких чистеньких. Ну, если не хотел убить Генерального секретаря, так ругал его спьяну, или Америку хвалил, или взятку дал, или продал что-нибудь "налево". Как у Кафки: вина должна сама себя обнаружить. Ведут наше дело о демонстрации, арестовано пять человек, на площади было от силы пятьдесят, а обыски проводят у ста и забирают, естественно, весь самиздат. Тут и средство запугивания, и надежда что-то "выловить".
А пуще всего бригада следователей интересуется интимной жизнью гражданина Н: с кем спал, где, когда и каким способом? Кто не без греха? - сознайтесь. И уж если такой грех обнаружен, то сразу убито несколько зайцев. Во-первых, у гражданина Н жена, и он вовсе не хочет, чтобы она узнала все его грехи. Во-вторых, у той гражданки, с которой был грех, есть муж, который этим обстоятельством весьма заинтересуется. Он - готовый союзник следствия, такое вспомнит о гражданине Н, что только руками разведешь. В-третьих, сама эта гражданка чего только не подпишет, чтобы муж не узнал лишнего. Да мало ли тут комбинаций возникает! Успевай записывай. И, наконец, весьма отчетливо проступает аморальный облик гражданина Н, его, так сказать, подлинное лицо, а это очень пригодится для суда и для газет. Ведь политическое следствие не преступление распутывает, а прежде всего собирает компрометирующий материал. Оно обязано выяснить, почему гражданин Н, внешне вполне советский, выросший в советской семье, воспитанный советской школой, вдруг оказался таким несоветским. Это надо установить и сообщить наверх, партийным органам, для обобщения и принятия мер.
Человек, по партийным понятиям, ни до чего не может додуматься просто так, сам. Тут должно быть чье-то "влияние": или буржуазной пропаганды (выяснить, как проникла!), или какого-нибудь антисоветски настроенного типа (выявить и взять на заметку!). В крайнем случае, следствию приходится констатировать недостаток воспитательной работы с гражданином Н. Это уже совсем скверно, и кто-то из партийных товарищей у него на службе или в институте получит выговор. До этого предпочитают не доводить и настаивают: "Ну, подумайте, видимо, кто-нибудь на вас влиял?.. Кто?"
Конечно же, к концу следствия, под тяжестью улик, гражданину Н полагается раскаяться, осознать свои ошибки или хотя бы посожалеть о содеянном. Иначе скверно приходится уже самим следователям: политическое следствие - это в первую очередь воспитание заблудшего, а следователь - воспитатель и политический наставник.
Главное оружие следователя - юридическая неграмотность советского человека. С самого дня ареста и до конца следствия гражданин Н полностью изолирован от внешнего мира, адвоката увидит, только когда дело уже окончено. Кодексов ему не дают, да и что он поймет в кодексах? Вот и разберись: о чем говорить, о чем не говорить, на что он имеет право, а на что - нет?
Человек, арестованный в первый раз, обычно твердо уверен, что его будут пытать или как минимум бить. Следователь его в этом не разубеждает. Напротив.
- Ну, что ж, - цедит он зловеще, - не хотите добром признаваться, вам же хуже. Потом пожалеете. Что "хуже" - не объясняется.
Как правило, решает человек, что лучше всего подтверждать уже известное следствию. Какая разница? Все равно знают. Лишь бы новых фактов не сообщать, новых людей не впутывать. Тем более, что, когда ты не отвечаешь, тебе начинают твердить: "Вы неискренни". Вот на известных фактах и можно подтвердить свою "искренность", в то же время вроде бы не расколовшись. И это самая распространенная ошибка. Подтверждать в своих показаниях то, что "известно" следствию, - все равно что менять для них советские рубли на доллары по официальному курсу. Их "знание", приобретенное от агентов, через прослушивание телефонных разговоров, а то и просто по предположениям, в протокол не запишешь, суду не предъявишь. Подтверждая сомнительное "известное", человек делает его юридическим фактом, доказательством. Даже когда зачитываются показания какого-нибудь "раскаявшегося", подтверждать их ни в коем случае нельзя. Показания одного человека (тем более обвиняемого, который не несет ответственности за дачу ложных показаний) - это одно дело, он еще может их изменить, в крайнем случае - на суде от них откажется. Показания двоих - значительно хуже, и тому же "раскаявшемуся" отказаться от своих прежних покаянных показаний труднее будет.
Самые незначительные факты, детали, подробности, вроде бы и к делу не относящиеся, и то опасно подтверждать (или рассказывать) - их предъявят кому-нибудь вместе с вашей подписью под протоколом и скажут:
- Вот видите, он во веем сознался. Такие мелочи - то рассказал.
А тут еще следователь, ведя протокол, непременно исказит все, что вы говорите. Вместо "встреча" напишет "сборище", вместо "взгляды" - "антисоветские взгляды", вместо "давал почитать" - "распространял". И отказаться подписывать неловко - работал человек все-таки, писал.
Удивительно - как трудно советскому человеку научиться говорить "нет", "не хочу отвечать", "не буду рассказывать". Предпочитают говорить в сослагательном наклонении: "вроде бы", "как будто бы", "может быть". Следователь же записывает "да" и еще от себя добавляет целую фразу - развернутое "да".
А тут еще наседка в камере да следователь намекает, что родственникам худо придется - жене, детям.
И когда наконец закрывают дело и можно встретиться с адвокатом, то уже поздно. Чего только не наговаривают на себя люди по незнанию! И на себя, и на других...
Второе оружие следствия - это свидетели. И к ним относится все сказанное выше - с той только разницей, что свидетелю еще труднее. Свидетель в политическом деле - это уже не свидетель, а подозреваемый. Сегодня свидетель - завтра в тюрьме, и основное свойство свидетеля - нежелание превратиться в обвиняемого. По некоторым делам даже и не поймешь, почему один оказался свидетелем, а другой - обвиняемым. "Виноваты" они одинаково, просто следствию так удобнее.
Свидетелю сразу же объявляют: за отказ от показаний - одна статья, за ложные показания - другая.
- Так говорил вам гражданин Н. или не говорил, что в нашей стране нет демократии?
Кто ж этого не говорит! Отпираться неправдоподобно. Ложные показания пришьют. - Не помню, знаете. Может быть...
- Полноте, - успокаивает следователь, - мы же знаем. Вот, например, в четверг, у вас дома, за столом. Вы еще анекдот рассказали, про Надежду Константиновну Крупскую. Ведь так дело было? - Вроде бы, - тянет свидетель, - я плохо помню..
Особенно плохо он помнит про то, как сам рассказывал анекдот. И следователь вписывает в протокол: "Да, в четверг у меня дома гражданин Н вел антисоветские разговоры, утверждая, что в СССР нет демократии". Гнуснейшая клевета на наш самый демократический в мире строй - статья 70 обеспечена. Какой адвокат вам теперь поможет?
Впрочем, адвокат - помощник только по уголовным делам. В политических делах, как правило, адвокат - помощник КГБ, ими же и назначенный, или, официально говоря, "допущенный". И если следствию, наседкам, свидетелям и юридической безграмотности объединенными усилиями не удалось довести гражданина Н до раскаяния - за дело принимается адвокат. Он не только откроет кодекс, но и на случаях из своей практики покажет, что чистосердечное раскаяние есть смягчающее обстоятельство:
- Раскайтесь, ну, хоть формально, и дадут поменьше. Не семь лет, а пять. Иначе вас и защищать невозможно.
Вот потому-то и не бывает в КГБ "нераскрытых дел". А уж если приходится признать, что зря арестовали гражданина Н, зря держали в Лефортове, - это просто грандиозный скандал. Кого-то в чинах понизят, кого-то на пенсию, кого-то на Чукотку старшим следователем по особо важным делам переведут, у белых медведей антисоветчину искоренять.
Позвольте, как же это - "пришлось выпустить"? Что же, все-таки существуют законность, беспристрастный суд, нелицеприятные судьи? И оправдывают политических?
Успокойтесь, товарищи, не торопитесь. Чтоб суд оправдал обвиняемого по политической статье, этого у нас не бывало. Разве что условный срок дадут, если очень живописно кается. Наши ведь советские суды выполняют в первую очередь задачу воспитания масс. А какое же это воспитание, если и дураку видно, что судят гражданина Н совсем уж, даже по нашим меркам, ни за что ни про что? И никакой даже сомнительной истории с деньгами или "морального разложения". Как же это может быть морально чист враг пролетарской власти? Да еще и никакого влияния буржуазной пропаганды не обнаружили.
И выпускают-то, не доведя дела до суда, тоже не "оправдав", а лучше всего "помиловав" (не осужденного, не представшего даже перед судом - помиловав!) или, в крайнем случае, "за недоказанностью вины": гуляй, милый, пока не накопим на тебя матерьяльчик, никуда не денешься. Так по нашему делу выпустили Илью Габая, чтобы через два года арестовать наверняка, без всяких там недоказанностей. Моя позиция на следствии была простой и ясной: - Я гражданин этой страны и действовал в рамках ее Конституции. Да, я организатор и активный участник демонстрации. Это мое конституционное право, и я им воспользовался, Я приглашал знакомых принять участие в демонстрации, делал лозунги, принес их на площадь и один лозунг держал. Кого именно приглашал, с кем делал лозунги и кто был на площади, говорить отказываюсь, так как моему обвинению это отношения не имеет. Я отвечаю только за свой действия. Перед выходом на площадь я инструктировал своих знакомых. Я прочел текст статьи 190-3 вслух и предупредил всех собравшихся, чтобы не нарушали общественный порядок, повиновались требованиям властей, не сопротивлялись, не нарушали работу транспорта и учреждений. Во время демонстрации никто из нас этих требований не нарушил. А вот те, кто нас задерживал и срывал лозунги, действительно грубо нарушили общественный порядок. Я требую их отыскать и привлечь к уголовной, ответственности. - И я писал сотни жалоб во все концы, - требуя - как добрый гражданин. - немедленно наказать нарушителей порядка.