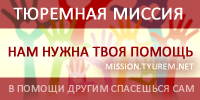Этапников на Серпы заказывают с вечера, раньше судовых. Значит, всю ночь торчать на сборке, которая оказалась маленькой запущенной прямоугольной комнатой с лавочками вдоль стен, унитазом и мутным светом от желтой лампочки. В помещении холодно и накурено. Среди собравшихся выделяются несколько лиц, почти счастливых, -- признанные. Они свое откосили, теперь их задача побыстрее выздороветь. У тех, кому завтра "в институт", лица озабоченные, с признаками надежды. Арестанты -- народ крепкий, но как хочется всем отсюда куда угодно, хоть в дурдом, хоть на войну.
На сборке все общее, и еда, и сигареты; в том и другом никто не откажет. Парень в майке, ежась, о чем-то размышляет, потом обращается к соседу: "Я признанный. Как думаешь, могут меня отправить не на Столбы, а на повторное переосвидетельствование?" -- "Раз признанный -- на Серпах был? -- был -- поедешь на Столбы. Не гони. Завтра в белой постели будешь спать". Признанный светлеет лицом и меняет тему: "У тебя рубашка есть?" -- "У меня нет. У кого есть рубашка?" В ответ кто-то открывает баул, достает чистую рубашку, молча протягивает признанному, тот благодарит, одевается и опять погружается в размышление. Никто не пытается заснуть, на сборке это редко удается. Долгая ночь проходит. Под утро цепляет сердечный приступ. Кто-то дает валидол (а ведь самому, наверно, нужен не меньше моего: медицинские передачи в тюрьму категорически запрещены), кто-то находит даже таблетку нитроглицерина. Были бы все так на воле друг к другу, может, в тюрьме никого бы и не было. Есть же примеры. В Исландии не только армии нет, но и над тюрьмой в Рейкьявике временами развевается белый флаг -- значит, в ней нет ни одного арестанта.
Первыми уходят на этап признанные. Их не много, со сборки они уходят как на свободу. А нам, серповым, сначала к парикмахеру, остричь все что ни есть. Случайное касание машинкой кожи -- чуть заметная царапина -- обернется для меня через несколько дней чесоткой. Инструмент, естественно, не дезинфицируется никогда, а в качестве меры предосторожности парикмахер старается стричь не касаясь кожи. Волнующе выглядит процедура сдачи казенки, хотя и известно: после Серпов все возвращаются, кто на признанку, кто в хату.
Ушли на этап признанные. Теперь их с полгодика "полечат", а потом -- "под наблюдение врача по месту жительства". Почти свобода. Уходят они организованно, с сияющими глазами, сдерживая счастливую улыбку. А нас, серповых, на продол, на перекличку.
-- Иванов! Петров! Сидоров! Что молчишь? -- в институте будешь дурковать, а здесь не надо. Взяли вещи, пошли!
Очень страшно, что вдруг снимут с этапа, хотя причин для этого не видно. Попасть бы только на Серпы, а уж психа они получат. Пути назад нет (только на признанку!); возвращение в хату пережить будет невозможно. Я не могу этого допустить, потому что хочу жить. Примерно с такими мыслями я, исполненный решимости, поднялся в автозэк. Единственный раз поездка в этом безрадостном автомобиле казалась желанной. Пес с ним, пусть полгода или год в психушке, зато ясность полная. Стать же рекордсменом Бутырки -- отсидеть за следствием десять лет -- даже думать не хочется. Настал момент, когда можно повлиять на события. Не упусти его.
Заурчал старый мотор. Через внутреннюю решетку и мутное внешнее оконце в двери автозэка мучительно пытаюсь понять в мелькании домов, где едем, загадав, что все будет хорошо, если это получится. Вот, угадал! -- Смоленская площадь. Теперь все будет наилучшим образом. Дальше ориентируюсь вслепую, по движениямавтозэка. Разворот перед метро "Парк культуры", свернули в переулок, еще, опять, встали. Вот они где, оказывается, Серпы. Это же рядом с Вовкой! Если удастся побег, есть шанс спрятаться у него. Каждый арестант, тайно или открыто, мечтает о побеге. Здоровья бы, как в молодости...
Двадцать с лишним лет назад попытка побега уже была. Тогда, гуляя по вечерней Москве, встретил знакомого, проводящего большую часть времени на крайнем севере, вегетарианца, но пьющего. Обрадовались встрече. Выпили. Много. К полуночи пошли к поезду на вокзал, парень уезжал в Ленинград. Под влиянием коньяка я решил: поеду тоже. Проводник воспротивился, т.к. ни билета, ни денег у меня не оказалось, и попытался выдворить меня из вагона силой -- не получилось: прочно взявшись одной рукой за стоп-кран, я отказывался отпустить поезд в Ленинград, предупредив проводника, что если он будет и дальше бить по моей руке, держащей ручку, то это его личное дело, а если ударит меня куда-либо в другое место, то у меня есть еще свободная рука. Пришедшим двум милиционерам, однако, подчинился и был под белы рученьки препровожден в КПЗ милиции Ленинградского вокзала. Запомнилось, что вели по задворкам, среди нагромождений складов и строительного хлама, пока не попали через широко раскрытые металлические ворота за бетонный забор в одноэтажное старое здание. Вход, ступени вниз, мимо конуры дежурного, железная дверь и длинный коридор с решетчатыми камерами по обе стороны, этакий многоячеистый обезьянник.
Проснувшись глубокой ночью на холодном полу, я испытал недоумение, а подойдя к двери, увидел напротив приникшие к решеткам лица и под каждым из них по паре рук, ухватившихся за железные прутья. Каждое лицо громко утверждало, что его надо немедленно выпустить, либо потому, что его папа, дядя и т. д. -- большой начальник, либо по причине смерти близких родст-венников, должных быть захороненными грядущим утром. Не обращая на крики внимания, по коридору взад-вперед прохаживался милиционер. Чтобы не отличаться от всех, я заявил, что у меня папа большой начальник и утром всех мусоров расставит по местам. То есть протрезвление еще не наступило. Зато оформилась мысль: надо бежать. Несмотря на абсурдность намерения, к его осуществлению я приступил тотчас, т.е. начал наблюдение. Приходящие и уходящие милиционеры открывали железнодорожным ключом дверь, а потом захлопывали ее не глядя, и я подумал, что было бы неплохо, если бы кто-нибудь не захлопнул дверь до конца. Не успел я так подумать, как это произошло. Немедленно я потребовал вывести меня в туалет. Неспешно гуляющий милиционер, идя в одну сторону, не отреагировал, но на обратном пути открыл мою клетку, довел меня до туалета в дальнем конце продола и пошел в сторону выхода, не дожидаясь меня. Выйдя из туалета, я кошачьим шагом пошел за его спиной на виду у задержанных. К их чести, никто не только никак не выдал своего внимания к происходящему, но даже не перестал выкрикивать начатые фразы. Так мы с товарищем дежурным преодолели длинный путь и приблизились к незахлопнутой двери. Дальше требовались решительные действия. Нырнув за спину поворачивающемуся мусору, я резко открыл дверь и даже успел ее за собою захлопнуть (за дверью, как в колизее, взревела толпа). Метнулся по ступенькам вверх. Сбоку мелькнуло удивленное лицо дежурного. Входная дверь оказалась открытой, и я стремительно вылетел во двор, в ночную прохладу. В тусклом свете фонаря определил, где ворота, и, наращивая скорость, пошел на них. Теперь, ребята, вам меня не догнать. Ворота оказались закрытыми: с бешеного разгона я ударился во что-то металлическое и непробиваемое. Несколько секунд было потеряно. В остальном не изменилось ничего. Прыгнув вверх, ухватился за кромку, подтянулся, перебросил одну ногу, но почувствовал, как не-кая тяжесть повисла на другой: мусор успел вцепиться в ботинок. Подоспел второй. Стянув с забора, милиционеры несильно побили меня, в назидание надорвали ухо и опять отвели в подземелье. Наутро, весьма уважительно разговаривая, отпустили восвояси, поинтересовавшись, почему я кричал, что папа у меня большой начальник. Не желая разочаровывать ребят, я солидно заметил, что так оно и есть. Случай остался без последствий. Ухо зажило.
На сей раз, если решаться, то неудача грозит куда более серьезными последствиями. А ведь решился бы, если представится случай...
Здание института имени Сербского на тюрьму не похоже, хотя и огорожено стеной с колючкой, исключая фасад, который окнами рабочих кабинетов выходит на проезжую улицу; прохожий может и не обратить внимания на то, что здание не совсем обычное. Так же и Бутырка прячется во внутренних дворах; много лет я ездил и ходил мимо нее и не знал, где она. Монстры рядом. Притаились и ждут. Теперь навсегда Москва для меня будет тем, что находится между Матросской Тишиной и Бутыркой, пятым изолятором и Капотней, Серпами и Петрами.
Как истосковался взгляд по нетюремным картинам. Прошли по лестнице особняка в старинную комнату за деревянными дверями. Арестанты сразу расселись по лавкам вокруг большого стола и задымили. Нервы требуют ходьбы. Хожу вокруг стола. Двустворчатые двери, похоже, даже не на замке. То есть ты здесь арестант наполовину: врачам решать, можешь ли ты быть виновен. Пятьдесят на пятьдесят. Или иначе? А сколько тревожной надежды на сосредоточенных лицах будущих психов... Только дурак не знает, как это делается на Руси. Деградация советской психиатрии локомотивом без тормозов ворвалась в современность; чего-чего, а науки в этих экспертизах меньше всего. Старые тенденциозные понятия, устаревшие методики, нехватка квалифи-цированных кадров, ума, отсутствие средств и в результате -- не без исключений, конечно, -- Россия вообще сильна своими исключениями -- профанация, взяточничество, трагикомическое свинство, -- в общем, все знают, что в результате.
Итак, Серпы. Кащенко проехали мимо, то ли из-за происков Косули, то ли он наконец решил помочь реально. "Завязки" -- говорит... Свежо предание. Где ж так помогали. Если признают невменяемым, но заболевшим в тюрьме, то в страшном сне не привидится: сначала психушка, и не Столбы, а спецбольница МВД, -- "до выздоровления" (причем "лечить" будут не по-детски), а потом опять тюрьма. В постановлении, среди прочих, поставлен вопрос: страдает ли обвиняемый каким-либо психическим заболеванием, и если да, то каким, и когда заболел, до совершения преступления или после. То есть вопрос виновности как бы решен. Удастся ли проплыть между Сциллой и Харибдой, неужели так бесславно и бездарно -- в психушках, тюрьмах и лагерях пройдет эта жизнь? Нет, я против. Сучья страна. Где моя солнечная Европа. Русским быть хорошо, но за границей.
"Павлов, пошли".
Спокойно. Не делать ошибок, не спешить.
Привели на собеседование. Вздорная девица в белом халате раздраженно, как на кухне в коммуналке, стала расспрашивать, на что жалуюсь. Нервы-таки сдали: "На тебя, -- говорю, -- дура, жалуюсь".
-- А вот я тебя в буйное направлю, -- плотоядно парировала девица.
-- Ладно, погорячился. Не надо.-- Направить в буйное отделение, действительно, могут, хотя, скорее всего, не станут, мне, как обвиняемому в совершении тяжкого преступления, должно быть приготовлено другое место. Опять же, если поверить Косуле, то никак не должны.
Другое дело, -- удовлетворилась девица. -- Мы Вас направляем в самое лучшее отделение.
Хм... Может, Косуля и не врет? Посмотрим. Дальше все как в Кащенко. Вещи отобрали, велели раздеться догола, залезть в ванну, неуместно стоящую прямо в кабинете, и скудно оросить себя душем. Скудно, потому что нечего людей задерживать. В ванне был? -- был. Воду лил? -- лил. Значит, гигиеническая норма соблюдена (вспоминается анекдот про советских врачей, впервые в мире сделавших операцию аппендицита через задний проход; на вопрос западных коллег, зачем понадобился столь необычный путь к операционному полю, последовал ответ: "А у нас все так делается"). С опаской тетеньки поинтересовались, не привез ли из Бутырки вшей или чесотку ("а то назад отправим") и в течение всей процедуры (помнится, так же было в Кащенко) с интересом наблюдали открывшиеся гениталии. И как не надоест. Впрочем, врачи, исследователи.
С отвращением одевшись в больничное белье и робу, с единственным страстным желанием -- спать, пришел я в сопровождении вертухая через какие-то непривычно чистые лестницы и коридоры в 4-е отделение, похожее на большую квартиру; да так оно до революции и было. По одну сторону коридора кабинеты врачей, комната без окон с лавкой и орущим телевизором, по другую сторону две палаты, на 10 и 20 человек, душевая, туалет. В коридоре охранник. В палате на десятерых указали кровать -- именно кровать, застеленную чистым бельем. Едва успев взглянуть в огромное окно и заметив напротив через сквер над бетонным забором фасад жилого дома, я, как в избавление, погрузился в мягкую чистую постель и, ни с кем не обмолвившись ни словом, полетел в пропасть сна.
Сон человеку дан как благо и страсть, в которой растворяются невзгоды.
А сны -- это миры, в которых мы живем. Там бывает счастье и беда, но в наших силах менять миры. И только тюрьма не дает такой возможности: сон арестанта столь неглубок и чуток, что при малейшем опасном движении со стороны или произнесенном средимногоголосого шума имени арестанта -- он пробуждается сразу, а часто и вовсе не спит, пребывая в недужной дремоте. Четверо суток я спал. Были какие-то проверки, шмон, завтраки, обеды; какой-то начальник, выискивая запрет, заставлял открывать рот и шевелить языком. Сомнамбулически поднимаясь к ним с кровати, я тут же, едва было можно, бросался в пропасть сна, и сон был похож на смерть. Никто лишний раз не будил, ничего не спрашивал, к врачам не вызывали, и правильно, иначе бы сразу получили правдивый материал о полной невменяемости пациента. Приснился кот Мур, живущий у дочери. Большой, как человек, окруженный красно-оранжевым ядовитым светом, с огромными желтыми клыками, с которых капает яд. Кот сидит, смотрит на меня и в мучительной тоске говорит: "Плохо мне". Протягиваю руку погладить, а он огрызается, как собака, пытаясь укусить. Отдергиваю руку перед лязгнувшими зубами и в страхе просыпаюсь.
На пятые сутки я стал понимать, что происходит.
-- Откуда? С Бутырки? -- поинтересовался сосед по палате.
-- Да.
-- По какой статье?
-- 160.
-- Растрата или присвоение чужого имущества.
-- Часть?
-- Третья. От пяти до десяти.
-- Будем знакомы. Игорь.
-- Алексей.
-- Крепко ты спал. С общака?
-- Сначала с общака, потом спец.
-- На общем какая хата?
-- Девять четыре.
-- Я из один ноль один. Почти соседи. Я здесь уже две недели. Через неделю комиссия. Что на тюрьме? Сколько Воров? Я уезжал -- было четыре.
-- Четыре и есть.
-- По воле чем занимался?
Эти вопросы как обязательная программа. Осточертели как тюрьма.
-- Всем понемногу.
-- Ясно. В шахматы играешь?
-- Играю, но как-нибудь другим разом.
Действительно, на большом столе шахматы и шашки. У стола две добротные деревянные лавки. Высокие потолки, чистота, у двери мягкое кресло. Народ тихий, будто никого и нет. Зато с коридора надрывается телевизор и кто-то кричит как резаный.
-- Это соседняя палата дуркует, -- пояснил Игорь.-- А у нас тихо. Они к нам ходят, мы к ним нет.
-- Что так?
-- Да нет, не возбраняется. Хочешь -- можешь зайти.
В палату, гогоча как гуси и обнявшись, ввалились два дурака. Покуролесив, поорав, как они любят убивать и насиловать, шумно вывалились в коридор. Воистину неизвестно, болезнь ли шизофрения или черта характера. А ведь придется знакомиться и общаться с дуркующей братией. Балбесы отвязанные. Компания...
Пришла дежурная сестра и встревоженно заговорила:
-- Мальчики, приготовьтесь к обходу. Ведите себя, пожалуйста, хорошо. Сейчас придет заведующий отделением. Встаньте у своих кроватей. Не надо ни на что жаловаться, для этого у вас есть лечащий врач. Если заведующий отделением о чем спросит -- ответьте. Кратко, вежливо и по существу. Не подведите меня.
За всю историю призывного возраста мне довелось трижды пройти процедуру психиатрической экспертизы в Кащенко. Неугомонный военкомат, по причине того, что при его посещениях я не всегда утруждал себя симуляцией, время от времени оспаривал мою непригодность к военной службе и давал заключение "практически здоров", однако требовалось подтверждение в Кащенко.А там заключение не подтверждалось: очень уж я не полюбил, хотя и заочно, советскую армию. За время хождения в дурдом побывал я и в буйном отделении, и заведующих видел. В принципе, у психиатра со стажем съехавшая крыша -- нормальное явление. Недаром в анекдотах, начинающихся бессмертными словами "приходит в дурдом комиссия" -- они мало отличаются от тех, кого лечат. Наш заведующий отделением оказался именно таким. В сопровождении врачей в палату по-хозяйски вошел субъект с маниакальным взглядом из-за очков и ущербным лицом.
-- Посмотрим. Да-да, посмотрим, что тут. А что здесь? Пациенты! -- заговорил сам с собой заведующий. -- Вы, между прочим, не думайте, что вам теперь все можно. У нас и карцер есть. Вы должны уважать труд уборщиц, у нас их не хватает. Поэтому -- взял тряпку -- вытер. Помыл пол. Сказали -- сделал, и не отказывайся. У государства средств не хватает, а мы вам чистые постели предоставляем, кормим лучше, чем в тюрьме. У нас идет прибавка веса после экспертизы. В коридоре висят правила поведения. Кто не соблюдает правила, пусть не ждет ничего хорошего. У каждого из вас есть лечащий врач. Вот они, все здесь, мои коллеги.
Коллеги молчали.
-- А это кто? -- оживился доктор, ткнув пальцем в молоденького парня. Тот попытался ответить, но язык не слушался.
-- Это Свиридов, -- с готовностью сообщила женщина из свиты. -- Прибыл из психиатрического отделения ИЗ - 48/2. После интенсивной медикаментозной терапии он пока не говорит, но состояние удовлетворительное.
-- А это кто? -- набросился заведующий на меня.
-- Это Павлов, -- ответила та же женщина.
-- Павлов!! Как же, как же, знаю! -- заведующий в восторге поднял палец и, обернувшись к коллегам, доверительно произнес: "Мне сегодня говорили о нем".
Вдруг доктор рассердился:
-- Пусть они сами за собой убирают! Нечего им бездельничать! -- и устремился к выходу. За ним гуськом потянулись коллеги.
-- Труба дело... -- в тишине изрек Игорь.
В отличие от настоящего дурдома, где психи разговаривают преимущественно о том, что составляет физиологический аспект существования, арестанты достаточно выдержанно обходят эти вопросы стороной, охраняя свою психику. В этом же, арестантском духе, вели себя подследственные и на Серпах. Прорывалась лишь главная тема: как вести себя с лечащим врачом, на обследованиях и на комиссии. В большом почете галлюцинации. Народ делится на две категории: тех, кто упирает на глюки, пребывая в большой надежде, что их признают, и на тех, кто о глюках ничего не знает. Последние старательно выведывают у первых, как эти глюки выглядят и с чем их едят, впадая в безнадежную меланхолию от того, что вряд ли смогут правдоподобно обрисовать глюки комиссии. Особым уважением пользуются "голоса". С завистью слушают малоспособные того, кто грамотно несет голиму о том, как он, повинуясь неведомым голосам, в страхе пред оными, лишал жизни жену или шел с автоматом, предварительно нажравшись водки, на центральную площадь уездного города и палил куда ни попади, а в ментовке, в обезьяннике, глядя на развешанные ковры и цветущие розы, заявлял, что он генеральный секретарь города Мытищи и требует поклонения вассалов -- дежурных милиционеров.
"Признают" же, как правило, совсем по иным признакам. Нет, конечно, у врачей глюки в цене, но исходят они (врачи то есть), один черт, из других соображений. В данном вопросе автор не имеет прямых доказательств, ибо если таковые имелись бы, то к определению Рейгана, данному России (тогда СССР) как империи зла, добавилось бы какое-нибудь нелестное и ортодоксальноеопределение: страна дураков, поле чудес или поле чудес в стране дураков и т.п., а этого допустить нельзя. Поэтому сошлемся на непосредственное знание, доступное лишь жителю Йотенгейма. В крайнем случае, на частное мнение.
...Итак. Если этот гусь будет председателем комиссии, то косить непрогнозируемо опасно. Ни глюки, ни голоса, ни хрен собачий не помогут, если этот гад не получит от Косули на лапу. Если Косуля продолжает коварствовать, то совсем плохо. Но в любом случае нужен задел: впереди беседы с лечащим, тесты у психолога. А пока есть чем заняться: налицо признаки какой-то гадости, скорее всего чесотки. На тюрьме это верный путь в "чесоточную" хату со строгой изоляцией, в компанию кожных больных, в болезнях которых никто особенно не стремится разобраться; т.е. почти в лепрозорий. Здесь же повезло: такой хаты нет.
Пришла дежурная, провела ликбез: у кого кто лечащий. Ободрила тем, что здесь нам помогут: если у кого что болит, -- заявите лечащему, он направит на прием к специалистам, благо "здесь не тюрьма и вас хотя бы подлечат". Обрадованный и почти окрыленный, я изложил свои головные и позвоночные проблемы врачу, и был мне прописан курс лечения, который выразился за 21 день в одной таблетке танакана ("Вы знаете, нет у нас сейчас лекарств. Хотите аспирин?"). Зато пришедший с воли на тюремную поденщину кожник, велев не подходить к нему, окинув издали зорким оком симптомы, констатировал: "Да, чесотка". На нее, к счастью, лекарство нашлось; однако вслед за мной зачесалась вся палата.
Степень открывшейся после Бутырки свободы ошеломила: можно ходить через коридор в соседнюю палату или в туалетную комнату, довольно большую, где можно курить, раз в час прикуривая от зажигалки охранника, и тем тоскливее становилось от мысли о возможном возвращении на общак. Нет, никак нельзя. Потянулись дни. Лечащий врач оказалась умной и доброй женщиной. Как и с врачом на "пятиминутке", у нас возникло молчаливое взаимопонимание. Трудно объяснить этот феномен. В.Л. Леви называл его "человекоощущение". Несколько вопросов вокруг того, почему в моем уголовном деле столько вопиющих нарушений со стороны следствия, мое краткое объяснение, и мы друг друга поняли. Вопросы о моем состоянии были заданы так аккуратно и правильно, что даже там, где мои познания психиатрии поистерлись, все становилось ясно. Выразив предположение, что с таким состоянием моего уголовного дела, может быть, имеет больший смысл рассчитывать на освобождение из-под стражи по состоянию физического, а не психического здоровья, поскольку мне назначена комиссия МВД, эта замечательная женщина дала мне возможность остановиться в рассказах о своих состояниях на той грани, с которой еще шаг вперед -- и ты псих, или шаг назад -- и ничего не случилось. Во всяком случае, делать шаг вперед она, кажется, не советовала. Не учесть этого было нельзя. Кроме того, я не почувствовал ничего, что говорило бы о "завязках" Косули. На что уповать -- на собственное упорство, на косвенную информацию, на предчувствие, сны, судьбу? А что если Косуля с моим бывшим другом заплатят именно за то, чтобы я был признан заболевшим в тюрьме. Тогда обо мне, как о существе разумном, можно будет забыть, и всех собак следствие повесит на меня, т.е., как говорят в таких случаях, пойду паровозом. Из-за бессильного бешенства вперемешку с напряженным размышлением остальное отступило на второй план, и чесотка, и голова, и спина, и разговоры с урками, косящими почем зря, но никак не могущими удержаться от разборов по понятиям. Как нечто отдаленное на второй план, наблюдал, как свирепый татарин, в борьбе за лидерство расквасивший в туалете физиономию строптивого убийцы из его палаты, решил поставить отделение на воровской ход. Общее собрание, на которое,впрочем, от соседей явилось человека три, состоялось в нашей палате. Председательствовал татарин. Он же и взял слово.
-- Значит, так. Больница есть больница. Место святое. Все мы здесь из разных мест, со всех централов. Дороги нет. Мы не знаем, есть на больнице Вор или нет. В отсутствие Вора за положением смотрит самый авторитетный арестант. Если кто претендует, пусть выскажется. Блатных, судя по тому, что я вижу, нет. Я -- блатной. Что, ты, может, блатной? -- обратился татарин к тощему наркоману с Матросской Тишины. -- Так ты скажи. Кто ты по жизни? Ну? Кто ты?
-- Порядочный арестант, -- просипел парень. -- Правильно, -- кивнул татарин. -- Но не блатной. В общем, с этой минуты у нас все будет правильно. Вот у тебя сколько есть сигарет? -- обратился татарин к Свиридову.
-- У м-меня... н-нет, -- промычал Свиридов.
-- У тебя нет, а у него есть, и у меня, например, есть. С табаком в отделении плохо, а без курева нельзя. Надо создать общак на две палаты. Кто будет смотреть за общим -- выберу я. А ты подойди сюда, -- позвал татарин мужичка с крайней кровати, который отличался от всех ясным взглядом. -- Присаживайся вот здесь, -- предложил татарин и, миролюбиво положив мужичку руку на плечо, добрым голосом сказал: "Братва, это -- мент. У него тоже экспертиза. Кого-то из наших завалил. Его, конечно, признают. Но вы его не трогайте, он у нас будет полы мыть, убираться, нам такие нужны. В принципе, и нам навести порядок не западло, но если есть он, то он и будет за это отвечать. Давай, бери швабру и сразу приступай, а мы продолжим. Вопросы есть? Будут -- задавайте. По серьезному поводу можно будить и спящего. А пока расход".
Не прошло и часа, как мент, бросив выданную ему именную швабру, из отделения исчез. Воодушевившись торжеством порядка, прицепился ко мне псих со стажемс погонялом Принц (на Серпах четвертый раз, первый раз был признан невменяемым, второй раз вменяемым, третий -- опять невменяемым):
-- Слушай, ты, я с тобой третий день разговариваю. Ты че, в натуре, язык проглотил? Так я тебе его развяжу -- отделение со спичечный коробок покажется! -- Принц кипел, и дело пахло дракой.
-- Не вопрос, Принц. Присаживайся. Хочешь поговорить -- поговорим. Порядочному арестанту всегда есть что сказать. -- Присаживаюсь сам и жестом предлагаю Принцу место рядом на своей кровати. Все, драки не будет, все сделано по правилам. Но Принц еще в заводе:
-- А почему не хотел говорить раньше? Может, ты за собой что-нибудь чувствуешь?
-- Я за собой, кроме стены, ничего не чувствую. Если по делу -- говори. Вопросы еще есть?
На шум стали подтягиваться из другой палаты, пришел татарин.
-- Есть. Ты с Бутырки?
-- Да.
-- Из какой хаты? Я тоже с Бутырки.
-- Девять четыре.
-- Девять четыре -- мусорская хата.
-- Раньше была мусорской.
-- Правильно. А кем был до тюрьмы?
-- Много кем.
-- То есть?
-- То есть много кем.
-- Например.
-- Например, учителем.
-- Каким учителем?
-- Русского языка и литературы средней школы.
Принц разинул было рот сказать что-то, но татарин четко, как из устава процитировал, сказал:
-- Принц, ты живешь по понятиям. Должен знать: врачу и учителю ты вообще ничего не можешь предъявить.
-- Да я так, -- стушевался Принц. -- Просто бывают учителя, там, детей насилуют, я и хотел узнать...
-- Просто, -- говорю, -- это ты знаешь, что. Вопрос не в адрес.
-- Без базара, -- согласился Принц. -- Пойдем покурим.
С этого момента вся соседняя палата стала называть меня "Учитель". -- "Ты, Учитель, совсем обурел!! -- орал на всю больницу Вова, косящий крайнюю степень психопатии. -- Тебе телевизор громко, а нам в самый раз!" -- "Учитель, помоги заяву написать" и т.д. То есть отношения с коллективом сформировались.
Дежурные сестры упрашивали строптивых психов мыть в отделении полы, но в лучшем случае добивались того, что уборка проводилась в палатах. Татарин пытался силой всучить кому-нибудь швабру, но безуспешно. Подняв за шиворот с кровати Егора, молчаливого паренька со всеми выбитыми зубами (в компании убийц, грабителей, насильников и вымогателей Егор казался невесть откуда залетевшей птицей: за найденные в его кармане следы наркоты ему грозило максимум два года) -- татарин, пригрозив, заставил Егора взять швабру. Егор стоял с шваброй и молчал. Татарин рассвирепел, и пошел уже по дуге могучий кулак, но вдруг остановился. Егор не ежился, не вздрагивал, стоял прямо, и по лицу его текли слезы. Татарин удивленно, как бы не веря своим глазам, тихо сказал:
-- Ты... -- плачешь?.. -- возникла пауза. -- Слушай, арестанты не плачут. Арестанты огорчаются. Думаешь, вымыть пол -- западло? Нет, мы не на продоле, это наш коридор, мы весь день по нему ходим, как по палате. Татарин взял швабру, ведро, и сам вымыл все отделение, включая кабинеты врачей. Потом объявил: "Чтоб больше с уборкой проблем не было!" Нянечки не нарадовались. Каждому участвующему после уборки предла-гался крепкий чай, кое-что поесть, сигареты и душ. Время от времени мы убирались вдвоем с Егором. Наклоняться с тряпкой я не мог, поэтому только подметал щеткой, но все были довольны. В душевой можно было плескаться долго, взгляд и слух отдыхал.
Егор оказался выпускником литературного института, поэтом, бывшим панком, с абсолютно ясной головой, но наркоманом по убеждению, выдвигавшим серьезное магико-философское обоснование жизни с наркотическими веществами. Некоторое время прошло в естественном взаимном недоверии, но потом разговаривать, как мне, так и, похоже, ему впервые за все время в тюрьме оказалось интересно. Тюремная лексика и преступные истории давно уже стояли поперек горла. Разговоры с Егором стали отдушиной, впрочем, несмотря ни на что, с тюремной оглядкой. Егор увлекательно рассказывал о своей жизни, выказывая художественно-аналитический ум и спокойный юмор, оставалось только удивляться, чего не хватило природе в образе этого человека, чтобы он достиг чего-то большего, чем есть. Стать признанным у Егора были верные шансы, поскольку, в силу каких-то обстоятельств (возможно родители вовремя задумались о будущей армии), у него был с детства замечательный диагноз "врожденная шизофрения", но следователь, ведущий дело, не поленился сходить в поликлинику, изъял историю болезни и потерял ее.
-- Егор, что тебе мешает жить без наркоты? Ведь сейчас нету -- и ничего. Что если двинуться к иным целям с иными средствами? У тебя все есть для этого. Освободишься -- и вот твой шанс.
-- Нет, -- ответил Егор, -- сразу к барыге.
Большинство арестантов искренно раскаивается в содеянном и строит воздушные замки на благих намерениях, но на свободе берутся за старое, и слезы их как правило суть крокодиловы. Но есть весьма убежденные в своем будущем. Не раз слышалось на общаке: "Работать я все равно не буду!" Не работать по жизни -- первый шаг в сторону Воровского хода. Впрочем, после российской тюрьмы, по-любому, работать не захочешь, и еще долго будет хотеться стать смотрителем маяка где-нибудь на краю земли. Все, что ни есть приближенного в социальном смысле к нормальному, для бывшего зэка закрыто: народ его боится и отторгает, несмотря на то, что зэки, настоящие и бывшие, составляют четверть населения.
Егор стал допытываться моего мнения о своих стихах (а я не люблю стихов, потому что сам их писал):
-- Ты отвлекись от своего отношения к поэзии и попробуй дать оценку стихам, как они есть, -- и я был вынужден признать, что стихи необычны, во всяком случае здесь. Одно из них я записал среди ночных бесед в табачном дыму в душном зеленом сортире, куда поминутно заглядывает охранник, требуя идти спать.
* * *
Отходит стих, как поезд от перрона,
и начинает гибельный свой бег
по рельсам неизвестного закона,
которому не мера -- человек.
Песчинка в поле -- что ему подвластно!
Своих не преступить ему границ.
Но помнить еженощно и всечасно
печать судьбы смеркающихся лиц.
Отходит стих, -- сначала без заботы,
прощальный миг -- и не о чем грустить!
В преддверии осенней позолоты
звучит судьбы серебряная нить.
Так некогда на станции начальной
я сделал шаг -- без муки и мольбы --
последний в философии печальной
и первый в философии судьбы.
И все же я был против стихов, находя их неточными по природе. Пообещав Егору написать стихотворение лучше, чем это делает он, я исполнил обещание, а Егор, опасаясь, что забудет, также записал его на память. Может, и мое произведение сегодня радует кого-либо на Серпах или Столбах, на зоне или на Свободе.
(Стих был коротким и звучал так:
Пусть отрастает борода
И седеют волосы,
Все равно нам здесь п....,
И без права голоса.)
Между тем в Москве происходило лето. Его можно было наблюдать сквозь мутное окно палаты. Там, на улице, виднелась стена с видеокамерами, которые наверняка не работают, а за стеной липы московского двора. От главной стены прямо под окна 4-го отделения идут бетонные перегородки, разделяющие больничный двор на секции. План напрашивался сам собой и не выглядел неосуществимым. Из душа, в котором можно после уборки проводить по получасу без контроля, ссылаясь на противочесоточные процедуры, будучи запертым на ключ, дабы другие психи не ломились помыться, -- вполне возможно выбраться за окно, выставив под потолком не слишком основательно закрепленный вентилятор, подобраться к которому можно, приставив к стене длинную деревянную лавку. Далее по паре связанных простыней спуститься на уровень основания окна и, откачнувшись маятником, усесться на бетонную перегородку толщиной в ступню, чего достаточно, чтобы пройти по ней, даже не садясь верхом. Главная стена -- на удивление -- без колючки. С нее надо спрыгнуть. Здесь будет гвоздь программы. Скорее всего, для меня прыжок будет роковым. Но сколь велик соблазн. Через несколько дворов -- дом, где живет Вовка, откуда начался мой столь неудачный путь. Побег может состояться вечером, прохожие не поймут, кто бежит, хотя бы и босиком, спортсмен или еще кто, скорее всего внимания не обратят. Дома у Вовки обязательно кто-то есть. Только вот задача -- как прыгать. А Егор бы помог. Если сам не побежит, то и не заложит. Неотвязная мысль о побеге стала следовать по пятам. Уже выяснилось в деталях, как снять вентилятор, как пронести и закрепить простыни, сколько на все нужно минут. Но как прыгать... Неудачная попытка может сделать из меня шевелящуюся биологическую массу. Неприятным холодком мелькнуло сомнение: можешь ли ты, мил-человек, не только прыгать, но и бегать, если ходишь с трудом. Но побег -- это шок, а в шоке человек способен на многое. С такими мыслями, закончив с Егором вечернюю уборку, смотрел я на окно с большим и непрочным вентилятором под потолком и, право, почти терял разум.
Первое обследование -- "шапка" (электроэнцефалограмма головного мозга) -- инструмент настолько грубый, что фиксирует отклонения разве что если у пациента полбашки отрубили, но в программу психиатрических экспертиз входит как отче наш. Егор ходил на свиданку (на Серпах редкость, но бывает) и умудрился протащить упаковку колес, таиться не стал, поделился с желающими. Убийца Сережа из Ставрополя (обезглавивший жертву и путешествовавший с отрезанной головой в руках на общественном транспорте), не желавший вступать ни с кем ни в какие отношения, спокойно объяснивший грозному татарину, что на общее не рассчитывает и желает быть сам по себе, -- здесь не выдержал и вежливо обратился к Егору:
-- Если имеешь возможность, не мог бы уделить децел? По причине того, что завтра иду на шапку. -- По местным признакам все вычисляют заранее, когда у кого какое обследование. Егор уделил по-братски. Вернувшись с шапки, Сережа удовлетворенно отметил, что врач, обслуживающий прибор, поинтересовался, хорошо ли Сережа себя чувствует, бывают ли у него провалы в памяти, и вообще может ли он идти без постороннейпомощи. Если шапка даст результат -- это как бы слишком серьезно, дальше только косить до конца. К тому же, как говорится, что знаешь ты и знаю я, то знает и свинья: получить заключение о симуляции тоже неохота. И я от колес отказался.
Постепенно заговорил заколотый аминазином на Бутырке Свиридов. Заехал на тюрьму за наркоту. На общаке съехала крыша. До Серпов держали в Бутырской психушке. Свиридов стал оживать на глазах, но испугался, что не признают, и замкнулся. -- "Ты дурку не гони, -- посоветовал ему обычно молчаливый мрачный убивец из Сибири. -- На комиссии будь собой. Тебя признают. Вот увидишь". Свиридов определенно вызывал сочувствие, а у женщин наверняка должен был пробудить материнские чувства; да и чем его преступление страшнее стакана водки. Состоявшаяся вскоре комиссия подтвердила предположение, и, вопреки всем правилам, пареньку сказали, чтоб не беспокоился: поедет в больницу. Вернулся Свиридов в палату сияющий, как мальчик со двора, возбужденно и радостно поведал, как было на комиссии, как его "простили". Одно слово -- детсад, но как солнечный луч прошел по палате, по лицам, видавшим виды и слыхавшим обвинения покруче, чем за понюшку табаку.
Человек привыкает ко всему, иначе бы не выжил. Даже когда на Матросске, в проклятой хате 135, душегубке по определению, раздалось за тормозами "Павлов, с вещами", наряду с бешеной надеждой мелькнуло сожаление: куда еще? -- здесь привык, а как будет там?.. Привык я и к Серпам. Уже нельзя было допустить, что можно спать на шконке, а не на кровати, что нужно тусоваться по хате по восемнадцать часов; стал тяготить спертый воздух палаты, который, в сравнении с тюремным, есть не что иное, как нектар и амброзия, и уже совсем естественным стало то, что на ночь выключают свет, и в палате стоит почти неведомая в тюрьме тишина. Пошла третья неделя "экспертизы". Чесотка прошла.Кормят хорошо. В любое время можно лежать на постели. Допустить мысль о возвращении в тюрьму решительно невозможно, особенно после того, как состоялось экстраординарное событие -- прогулка. Достаточно было отказаться двоим из отделения, как прогулка отменялась. Каждый день звучал призыв "на прогулку!", и каждый день какая-нибудь сволочь, видя в своем поступке шаг к заветному диагнозу, лишала надежды всех, к явному удовольствию персонала. Однажды солнечным августовским днем 1998 года это удивительное событие все же произошло, и компания в дурацких балахонах под неусыпным контролем вертухаев и нянечек гуськом выгребла на улицу в прогулочный дворик, окруженный сплошной высокой бетонной стеной.
То, что я увидел, поразило не меньше, чем первый шаг в хату 135 на Матросске. Это был уголок рая, забытый и покинутый людьми. Вдоль стен шла асфальтовая круговая дорожка, все остальное была буйная зелень и цветы. Нянечки бросились искоренять ветки кустов, могущие обернуться орудием насилия в руках зэков, охранник у железной двери запретил подходить к себе; было предписано ходить по дорожке по кругу, но основная масса, хмуро матерясь, сгрудилась на лужайке и, отплевываясь, задымила сигаретами. Отойти по другую сторону от общества означало почти не видеть его; здесь взгляд упивался живой зеленью, желтыми, красными, синими цветами. Жужжали пчелы, шмели, высокий забор беззаботно оставляла под собой лимонная бабочка. Все было невиданно настоящее. От чистого солнечного неба и запаха травы захватило дух, как будто вышел в Крыму на край горного плато и вдруг увидел море. Чтобы не разрыдаться, я закурил. Уходя с прогулки, я знал точно: жизнь вертухая ценности не имеет.
Приближалось обследование у психолога. Все уже его прошли, обо мне же как забыли, а от него наполовину зависит результат. Некоторую тревогу вызывал тот факт, что будет предложен обширный тест, в котороместь такие вопросы, как, например, какой ваш цвет -- любимый. Разным типам шизофрении соответствуют определенные любимые цвета, и шизофреник с любимым фиолетовым цветом никогда не скажет, что зеркало -- символ печали, а если скажет, значит он симулянт. Конечно, каждый сходит с ума по-своему, но в данном случае важны штампы, их надо знать в соответствии с учебником. Ничего не видя и не слыша, я погружался в прошлое, медленно листал пособия по психиатрии, вглядываясь в забытые строчки.
-- Учитель! Ты медитируешь в натуре, тебя к психологу!
В кабинете сидела молоденькая девочка, почти симпатичная, с абсолютным отсутствием жизненного опыта, с только что усвоенными и, наверно, прилежно законспектированными психологическими истинами и безмятежностью в лице. -- "Меня зовут Лена" -- представилась она. -- "Очень приятно. Павлов" -- ответил я, не в силах оторвать взгляд от огромного чисто вымытого окна, за которым, как горные утесы, виднелись углы и стены какого-то двора. "Небьющееся" -- подумал я.
-- Начнем работу, -- сказала Лена. -- Я буду говорить слово, а Вы сразу отвечайте, что Вам пришло на ум. Не напрягайтесь, не думайте, а просто говорите, с чем связано слово, которое я назову. Газета.
-- Вьюга.
-- Почему вьюга? -- удивилась Лена.
-- Не знаю. Вы просили говорить то, что придет в голову.
-- Попытайтесь объяснить, почему Вам так показалось.
-- Я бы, Елена, как Вас по отчеству?
-- Владимировна.
-- Я бы, Елена Владимировна, объяснил, только это ведь Ваша, а не моя задача, -- потянул я время, чтобы справиться с желанием отвечать спокойно и нормально. Из рассказов Егора я понял, что именно Лена экзаменовала его. Лена поведала Егору, что знает, какая это большая проблема -- наркомания, что у нее самой очень много знакомых употребляет наркотики, и она понимает, что любой из них может быть на месте Егора, а потому она, в связи с тем, что Егор достаточно правильно ответил на все вопросы, в смысле шизофрении как диагноза, приложит максимум усилий, чтобы повлиять на результат экспертизы, причем горячо пообещала сделать все, что может, чтобы Егор поехал не в тюрьму, а в больницу.
-- И все же.
-- Объяснений много.
-- Попробуйте найти правильное.
-- Все правильные.
-- Тогда какое-нибудь из них.
-- Которое?
-- Вы не дали ни одного.
-- Хорошо. Вьюга белая. Бумага, из которой делается газета, белая. Количество снежинок не поддается счету, букв тоже много, слова все похожи, и тоже почти нет одинаковых. Газета отражает объективные и субъективные проблемы. Вьюга отражает. И никто не может сказать, что существуют две снежинки, идентичные друг от друга, несмотря на то, что все в этом уверены. А уверенность эта суть фикция, потому что за пересчитанным и идентифицированным количеством снежинок лежит область непознанная и предыдущему пространству не подчиняющаяся. То есть почти что как газета. И это только в результате поверхностного анализа, да и то исходя из дуалистической позиции: вьюга и газета суть начала самостоятельные. Однако дуализм есть фикция, как, впрочем, и все остальное, а при следовании теории монизма мы сразу потеряем связь с экстерриториальностью понятий (газета и вьюга) и окажемся в поле простых сущностей, которое не оставит сомнений, что есть основание и для связи в человеческом представлении понятия газеты и вьюги.
-- Очень интересно, -- согласилась Лена. -- Продолжим. Город.
-- Озабоченность.
-- Почему?
-- Здесь просто. Если убрать вторую букву о, получится "горд". Если человек чем-то горд, значит дорожит тем, чем гордится, следовательно, опасается потерять предмет гордости, поэтому ему свойственна озабоченность: как бы сохранить то, что есть.
-- Улица.
-- Курфюрстендамм.
-- Что?
-- Улица. В западном Берлине.
-- Почему именно она? Вы что, бывали за границей? Кстати, как Вы сказали? Можете повторить?
-- Курфюрстендамм.
-- Так почему она?
-- Потому что улица.
-- Согласна. Дальше. Принципиальность.
-- Двойка.
-- Число два?
-- Да.
-- Почему?
-- Оно самое принципиальное.
-- Почему Вы так думаете?
-- Мне так кажется.
-- Кроме того, что Вам так кажется, другое объяснение есть? -- в голосе Лены появилась угрожающая нота.
-- Есть.
-- Какое?
-- Это так и есть на самом деле. Объективно. Независимо от того, что мне кажется.
-- Хорошо. Кирпич.
-- Печка. -- Такому ответу Лена открыто обрадовалась, на ее лице проступил румянец.
-- Бесконечность.
-- Усы.
-- Почему же усы?
-- А почему бы и нет? В бесконечности всему есть место, в том числе и усам.
-- А с чем еще может ассоциироваться бесконечность?
-- С чем угодно. С подоконником, с инвалидом, с котом Васей, с Вашей прической, моим обвинением, с гурманизацией гетеротрофных индивидов в свете новейших функолегологических обструкций, с биномом Ньютона и просто с ничем.
-- Нарисуйте, пожалуйста, следующие понятия, -- Лена выдала мне бумагу и коротенький карандаш, -- одиночество, скорбь, знание, болезнь, ожидание, счастье.
Нарисовать легко. Запомнить трудно. Когда Леночка увидела классические шизофренические символы (река, часы, зеркало, отражение и т.д.), она упала духом и спрятала мои рисунки в стол. Я же печально задекламировал:
Что в зеркале тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальный.
Что в зеркале тебе моем?
-- Стихи любите? -- сочувственно поинтересовалась Лена и перешла к тестированию моей памяти. Я выдал вполне приличный результат, не должный, однако, мне позволить запомнить, как я назвал свои многочисленные художества с шизофреническими символами. Затем последовала долгая дружеская беседа с исследовательской подоплекой, после чего Лена извлекла из стола мои рисунки и попросила воспроизвести, где одиночество, где принципиальность, где что. Память не подвела: и скорбь, и радость, и надежду, и много всякого другого я опознал без ошибок. Но Леночка была не промах:
-- А Вы когда-нибудь уже отвечали на наши вопросы? Вы первый раз в институте имени Сербского?
-- Елена Владимировна, не только первый, но и последний. И на вопросы Ваши я никогда не отвечал, разве что в прошлой жизни.
-- Сейчас я дам Вам карточки с картинками, Вы должны исключить лишнюю, которая никак не относится к другим.
Мягко улыбнувшись, я возразил:
-- На сегодня я должен соблюдать режим следственного учреждения. Больше ничего я не должен.
-- Мы не имеем отношения к следствию, и Вашего уголовного дела я не знаю, -- скосив взгляд на сторону, сказала Лена. -- Поэтому я попрошу Вас продолжить обследование. Или Вы отказываетесь? -- забеспокоилась Лена.
-- Я с удовольствием. Это так, к слову.
На первой карточке были дом, средневековый замок, сарай и висячий замок.
-- Что исключите? -- не подозревая трудностей, спросила Лена.
-- Что угодно.
-- Например?
-- Сарай?
-- Почему?! Здесь же все очень просто и очевидно. Я бы не советовала Вам так отвечать. Мы очень отрицательно относимся к необоснованным ответам. Вы даете основание заподозрить Вас в преднамеренном искажении...
Предстояло проявить настойчивость.
-- Елена Владимировна, если Вы хотите, чтобы я отвечал так, как надо Вам, Вы мне подскажите, и я, может быть, с Вами соглашусь. Но мне трудно согласиться с тем, кто рисовал эти картинки и, особенно, с тем, что на них нарисовано. Кто возьмет на себя смелость сказать (может быть Вы?), что есть единственный правильный ответ! Я Вам могу немедленно доказать обратное.
-- Как Вы сказали? -- "с тем, кто рисовал и с тем, что нарисовано"? -- переспросила Лена, делая пометкив блокноте. -- Хорошо, попробуйте. Но здесь очевидно, что лишним является висячий замок. Это очень простой вопрос.
-- Напротив. Поверхностный взгляд приводит к заблуждениям. Во-первых, как Вы видите, и дом, и старый замок имеют лишь одну дверь. Как и сарай. Но сарай -- сооружение весьма непрочное, его и закрывать на замок не имеет смысла. Да и что ценного может быть в сарае. На кой черт его закрывать. Дом и замок -- другое дело. Или Вы возражаете? -- Елена Владимировна внимательно смотрела на меня зачарованным взглядом психиатра. -- Так вот только там и могут быть реальные ценности. Значит, закрывать на замок мы будем дом и замок, а сарай вычеркнем, как к делу не относящийся.
-- Но ведь дом, замок и сарай -- это что? Как их можно назвать одним словом? -- взмолилась Лена.
-- Постройки.
-- Правильно! А висячий замок -- это постройка?
-- Нет.
-- Значит, можно допустить, что исключить нужно именно его?
-- Можно.
-- Значит, напишем, что Вы так и ответили?
-- Я ответил по-другому. Так ответили Вы. Я только согласился.
-- Так я напишу, что Вы согласны?
-- Я, как Герасим, на все согласен. Но это необъективно.
-- А что объективно?
-- Объективно: написать два правильных ответа, Ваш и мой. На самом деле их больше.
-- Хорошо, хорошо. Так и напишем. Вот следующая карточка.
Из четырех предметов: ракеты, автомобиля, воздушного шара и свечки я решительно убрал автомобиль, т.к. единственно он содержит огонь внутри мотора, а свеча, ракета и воздушный шар характеризуются наличием открытого огня. Лена отложила карточки и больше к ним не возвращалась.
-- Давайте проведем игру. Но на самом деле это не игра, а очень серьезное дело. Вот карточки, -- девушка придвинула ко мне большую стопу картинок, как в детском лото. -- Вам нужно их разложить по категориям. Постепенно. Всего должно получиться две стопы.
Что ж, поехали. Овцу и собаку в одну стопку. Кирпич и бревно в другую. Весы и складной метр в третью. Потом предметы одушевленные к одушевленным, неодушевленные к неодушевленным. Когда, под одобрительным взглядом психолога, осталось три карточки: ребенок, градусник и кровать, я задумался.
-- В чем затруднение? -- участливо спросила девушка.
-- У Вас ошибка. Стопок должно быть три.
-- Нет, две.
-- Или убрать три карточки. Они не подходят.
-- Нет, подходят.
-- Точно?
-- Точно.
-- Тогда ясно. Вы нарочно так сказали. В этой задаче только один ответ. Стопок должно быть три.
-- Но что общего в этих предметах!?
-- Как что. Ребенка мы посадим на кровать и поставим ему градусник.
-- Вы действительно так думаете? -- опечалилась Лена.
-- Я могу думать так, как захочу.
-- Что это значит?
-- Это значит, что мир таков, каким его делаете Вы.
-- Но есть истина.
-- Истина экзистенциальна.
-- Это как?
-- Как Вам больше нравится. Как захотим, так и будет.
-- Сомневаюсь.
-- А я нет. Хотите, докажу?
-- Конечно!
-- Я вам задам задачу, Вы будете уверены в своем правильном ответе, а прав окажусь я.
-- Этого не может быть, -- улыбнулась Лена.
-- Попробуем?
-- Да, давайте.
-- Ответьте мне на вопрос: куда ходили мы с Пятачком?
Девушка подумала и, смущенно улыбнувшись, спросила:
-- К Винни-Пуху?.. Или к Ослику?.. -- и приободрившись, обобщила: "К кому-то из них".
-- Нет. С пятачком мы ходили в метро, -- ласково пояснил я. Думаю, девушка помнит, что изначально метро стоило пять копеек.
Елена Владимировна сразу стала строга:
-- Скажите, что значит "шила в мешке не утаишь"?
-- Пса его знает.
-- Что? Кто знает?
-- Пса.
-- Кто это?
-- Пес.
-- Почему же пса, если пес?
-- Потому что пес -- это он, а пса -- это она.
-- Все-таки, как Вы думаете?
-- По-разному. Можно так думать, можно этак.
-- Хорошо. Вот другая пословица: цыплят по осени считают. Что это значит?
-- Всему свое время.
-- Хорошо. Вы так считаете. Правильно считаете. Почему же эту пословицу можно объяснить однозначно, а "шила в мешке не утаишь" можно понимать по-разному. Есть разница в этих пословицах?
-- Нет.
-- Как нет?
-- А Вы сомневаетесь?
-- Да, сомневаюсь.
-- Ну, так я докажу?
-- Сделайте одолжение. Так почему?
-- Потому что я так хочу. А захочу, чтобы была разница, -- будет.
-- Объясните, в каком случае есть разница, и в каком нет.
-- Разницы нет в первом случае. Разница есть во втором. В первом случае шила не утаишь, значит, в определенное время тайное станет явным, несмотря на то, что имела место попытка нечто утаить, т.е. всему свое время. Здесь и произошло слияние двух пословиц. Во втором случае цыплят считают, хоть и по осени, а шило утаивают. Считать и утаивать -- вещи разные, но если захотеть, чтоб все было одно и то же, то утаивать -- значит контролировать, определять в размере, весе и качестве, с тем чтобы соотнести параметры утаиваемого с прогнозируемой угрозой, т.е., как Вы, несомненно, уже догадались, -- это то же самое, что считать. И так до бесконечности: истина экзистенциальна. Ну, как? Похоже, доказал?
-- Вы знаете, у меня голова кружится. Вы наркотики употребляете?
-- Нет. Я сторонник чистого разума. Однако курю, предпочитая табачный дым религиозному дурману.
-- Вы не верите в бога?
-- Давайте, Елена Владимировна, я Вам докажу что-нибудь еще.
-- Минуточку. Посидите, я сейчас приду.
Повеяло чем-то угрожающим: натурально, я остался в кабинете один. Впрочем, куда ты с подводной лодки денешься.
Стремительно вошла молодая, злая как фурия еврейка, за ней как школьница за учителем, моя психологиня.
-- Что общего между ботинком и карандашом? Немедленно отвечайте, без паузы!! -- заорала еврейка.
-- Оба оставляют следы. Ботинок на полу, а карандаш на бумаге, -- без запинки отрапортовал я.
-- Какая разница между чернильницей и луной?
-- Нет разницы, -- смиренно ответил я.
-- Че-во? -- угрожающе заявила фурия.
-- Луна отражает свет, и чернильница отражает, -- пояснил я.
-- Что -- нет никакой разницы? -- фурия внимательно смотрела мне в глаза.
-- Вы не сердитесь, -- не отводя взгляда, миролюбиво попросил я, -- есть разница.
-- В чем?
-- Луна отражает свет солнца, а чернильница -- и солнца, и луны.
-- Все ясно, -- констатировала учительница.
Больше со мной никто не разговаривал. Почему не дали главного теста, который положен всем и является ключевым. Причин могло быть несколько. Первая: досрочно признали симуляцию; вторая: досрочно убедились в шизофрении; третья: никто не убеждался ни в чем, и результат будет один, благодаря вмешательству: а) Косули, б) следствия. Вот где настоящая шизофрения.
Через несколько дней опять привели в отделение психологии. Долго ждал в коридоре, сидя на обыкновенных человеческих стульях, прямо как в каком-нибудь вольном учреждении в ожидании аудиенции, практически без всякого присмотра (охранник то и дело отлучался) и старался удержать себя от безрассудного действия: привели сюда длинным путем, собирая по пути психов из разных отделений, и в какой-то момент на первом этаже прошли мимо приоткрытой двери кабинета, в котором окно выходило на обычную улицу, решеток не было, а сквозь открытую форточку проникало московское лето; замок на двери был определенно захлопывающийся. Рядом шагал здоровенный охранник. Несмотря на нахлынувшее стремление к волшебной форточке, к счастью, хватило ума понять, что единственно слабым местом противника в этой ситуации могут быть только глаза, а они на двухметровой высоте, и шанс на точный и быстрый удар слишком мал. Теперь же хотелось броситься вниз по лестнице, бежать к заветной приоткрытой двери, чтоб все получилось и случилось немедленное чудо. Ах, Артем, как я тебя понимаю, ты говорил, что уйдешь в бега в любом случае, рано или поздно. Тогда я тебя призывал к благоразумию, а теперь тоже понимаю, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях. От таких мыслей оторвала появившаяся Елена Владимировна, которая, сухо поздоровавшись, сказала, что мне забыли предложить анкету; нет, не в кабинете, можете здесь, в коридоре, вот анкета, карандаш, тетрадь у Вас есть, подложите под листок и пишите, а в кабинете нет необходимости. Анкетой оказался даже не тот, главный, тест, а другой, второстепенный. Предстояло закончить начатые предложения. Например: "До войны я был..." "Танкистом" -- дописал я. Или: "Если бы у меня была нормальная половая жизнь..." -- "То я был бы половым, и духовную жизнь называл бы духовкой". И так далее.
-- Давайте сюда, -- потребовала психологиня, проходя мимо.
-- Я не закончил.
-- Неважно. Давайте.
Как говорят в народе, вот тебе бабушка и юркнула в дверь. Опять шизофрения.
"Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется" -- думал я, возвращаясь в палату в сопровождении вертухая. Повеяло грозным дыханием предстоящей комиссии. Надо решаться. Задел есть, и если грамотно приплести глюки -- диагноз будет. Но какой... Снова череда старых вопросов налетела душащим сомнением и непреходящим ощущением предательства. Вдруг персонал отделения всполошился: Павлова вызывают к адвокату. Есть на Серпах у подследственного такое право, но все знают, что оно только на бумаге. Случай исключительный. После каких-то попыток свидание отменить,споров врачей, пускать или не пускать, наконец повели. Ах, как вовремя. Так нужна ясность, так хочется верить, что Косуля больше не обманет. В конце концов, это для него опасно, ведь выйду я когда-нибудь на свободу, да и не может такого быть, чтобы совести в человеке не было совсем.
В старинной комнате с большим столом и лавками, где мы тусовались после этапа с Бутырки, тихо сидит Косуля и страдальчески смотрит на меня. Пауза длинная и нелепая. Мне нужна информация, действие, а не соболезнование (я еще живой), хотя и это что-то новое (может, впрямь пробрало?). Молчали долго.
-- Алексей, -- наконец сдавленно заговорил адвокат. -- Если бы ты знал, чего мне стоило добиться этого свидания... Я даже к Хметю ходил.
Ах, вон оно что: перетрудился. Молчу.
-- Ну, как ты?
Молчу.
Косуля тоже молчит. Похоже, страдает и ищет сочувствия. Бред какой-то. Нарастает волна ярости, и, видя это, адвокат проворно придвигается ко мне и шепчет на ухо, громко шелестя в руках газетой: "О тебе заботятся, ничего сам не предпринимай. Все договорено. Поедешь в Белые Столбы. Деньги заплачены. Твоя жена передала наличные. Стопроцентная гарантия. На комиссии ничего не говори -- только навредишь: там будут посторонние, кто не в курсе". И уже во весь голос:
-- Я пришел убедиться, что ты жив, здоров. Теперь я спокоен. Твоя сестра передает тебе привет.
Понятно. Денег выманили. Но теперь есть реальный шанс, что за мои же деньги, не тратясь сами, наконец, похлопочут. Верно рассчитано. Разве стану я возражать. Не стану. Мне бы на свободу. И могильным холодом мысль: а если опять обман?
-- Мне пора, Алексей. Разрешили только пятнадцать минут, а я уже полчаса здесь. До свидания.
Ёлки зеленые, что делать... Нет, нельзя верить. Что денег взяли -- можно не сомневаться, а вот помогут ли. Однако сказано же: "Не выйдешь из тюрьмы, пока не отдашь все до последнего кодранта". Готовься в шизофреники самостоятельно. И нос по ветру. Будет комиссия -- будет видно. И что значит "только навредишь"...
День комиссии настал. Пролетели дурдомовские будни, с тем же успехом, что в тюрьме, т.е. дни тянутся, а недели летят. На побег так и не решился, к обществу привык совершенно, жил как бы сам по себе, практически ни с кем, кроме Егора, не разговаривая. -- "Эх, мне бы так, -- кивая на меня, с завистью говорил Принцу татарин. -- Я его проверил, его признают. Первый признак настоящего сумасшествия -- отсутствие чувства юмора".
С утра палата пошла на конвейер. Арестантское чутье уже определило процент признаваемых от числа соискателей и, похоже, даже не ошибалось в том, кого признали, кого нет. Возвращался арестант с комиссии, рассказывал что-то, и становилось ясно, да или нет. Здесь уже никто никому не желал удачи. Только самому себе. Именно сейчас кто-то пан, а кто-то пропал.
"Павлов, к врачу!" Зашевелился под сердцем холодок. Не в лучший день (13-е число) выпало мне идти на комиссию, не лучшие сны снились перед ней. Ехал по аллеям летнего парка на грузовике, на высокой скорости, со страхом, но правильно вписываясь в неожиданные повороты. Кругом лес, одна единственная дорога, и больше никого. Вдруг понял, что заканчивается бензин. За очередным поворотом появляется заправочная станция. Тоже ни души. Останавливаю машину, выхожу. Тишина. Иду внутрь помещения, отдаю кому-то невидимому деньги, возвращаюсь к машине, а ее нет. В отчаянье просыпаюсь.
Что в прошлом, то не страшно. Тогда же, ни живой ни мертвый, явился я в кабинет и увидел за длинным столом человек десять врачей в белых халатах, сплошь женщины и один мужчина -- тот самый, наш заведующий. Видимо, только что председательствовавший, он уступил место во главе стола женщине, выражение лица которой мне сразу не понравилось, а сам встал и, с ехидной улыбкой и сверкающими глазами глядя на меня, стал ходить по кабинету, собирая какие-то бумаги и всем видом говоря, что он тут не при чем. Но не уходил. Ряд врачей, включая моего "лечащего", явно не имеют решающего влияния на ситуацию, это видно по лицам. Однако все взволнованы. Видимо, обсуждение моей кандидатуры состоялось только что и спокойным не было. Сейчас все станет ясно. И причем сразу. Такое количество женщин не сможет скрыть своего отношения. Спокойна только председательша с экзотической, как я узнал потом, фамилией -- Усукина.
-- Что-то Вы бледны, -- совершенно паскудным тоном обратилась ко мне Усукина.
Невнятно пробормотав что-то в ответ, я почувствовал неладное, а мысли потекли в совершенно незапланированном направлении. Никто не знает, зачем восходитель стремится к вершине. Зачем меня понесло в двадцатиградусный мороз наверх, объяснить трудно. Наверно, потому что решил посвятить жизнь альпинизму. Чему еще ее посвящать, если там, внизу, раскинулась как море широко страна совдепия, инстинктивно ненавидимая мной с тех пор, как обнаружилась способность мыслить самостоятельно. В том же отстранении от извращенческого социума, занесло и на канатную дорогу Чегет, на одну из самых низкооплачиваемых должностей, помощником контролера. Отсюда и иллюзия мужественной исключительности занятия альпинизмом, как единственно достойного в мире практических действий. Большое начинается с малого, поэтому на Донгуз-Орун "по семерке" пойду в одиночку следующей зимой, а сейчас -- Малый Донгуз по единичке, как первый тост. Канатка не работает из-за лавинной опасности. На склоне ни души. Ночь провел у приятелей в лаборатории КБГУ. Стоит насклоне горы с полным названием Чегеткарадонгузорункарабаши на высоте 3000 метров жилой деревянный дом. Есть в нем какая-то установка, улавливающая что-то с неба, а в основном, тусуются здесь альпинисты, туристы, гости и гостьи. Словом, карты, пьянство плюс неограниченные возможности катания на горных лыжах. Но, с романтической точки зрения, место, каких мало на земле. Можно сидеть в теплой комнате, смотреть в окошко, а там -- в полмира картина гор такая, что тысяче Рерихов не под силу. Ранним утром, еще затемно, я вышел из этого уютного домика и пошел наверх. Летом -- прогулка, за восхождение стыдно посчитать, зимой -- немного иное дело. Ощущение полного одиночества появляется быстро, при том, что до людей рукой подать. Но люди как бы перестают существовать, и о них уже не думается. Сейчас, под ритм энергичного движения вверх по склону, стараюсь угадать, по душе мне это одиночество или нет, готов ли стремиться в гибельные выси (не сегодня, конечно; сегодня это так, ерунда), надеясь только на себя и на Бога. Через час-другой подъема по глубокому свежему снегу в проявившемся рассвете обозначился предвершинный скальный гребень, часть которого обходится по снежному склону (логика альпинистского маршрута -- это простейший путь в выбранной части горы). Склон уходит вниз и обрывается в пустоту. Разгоряченный подъемом, пережидаю минуту и делаю первые шаги. Приятно иметь закаленные руки. Без рукавиц с удовольствием разгребаю колючий снег и вдоль скал прорываю траншею. Снег глубокий, одна голова над поверхностью. Опасность схода лавины -- высокая. Оправдывающий фактор -- траншея роется на самом верху склона, под скалами. Больше похоже на плаванье в снегу, чем на пешее движение. Вспоминается предупреждение знатоков снежных лавин о том, что считать передвижение по верхней части снежного склона наиболее безопасным -- распространенное заблуждение. Но есть уверенность, что все будет хорошо, и я плыву, отфыркиваясь в снегу. Внезапно наступает тишина. Не сразу понимаю, что я застыл без движения, вслушиваясь в невесть откуда взявшееся ощущение смертельной опасности, похожее на длящееся мгновенье перед началом грозы. Кажется, одно легкое движение вперед -- и все изменится: зашипит снег, и секунд через двадцать ты окажешься на километр ниже, в другом мире. А собираешься быть пока в этом. Может, это необоснованный страх? Как же ты собираешься один в большие горы, если не можешь взойти на малые. Вперед! Не пропала же уверенность, что все будет хорошо? Нет, не пропала. Все будет хорошо, если сейчас, с легкостью одуванчика и осторожностью хирурга, ты повернешь вспять и уплывешь назад, и, желательно, по воздуху. Вот уже видна площадка на гребне, откуда начинается траншея. Метров десять и ты в безопасности. Глубоко вдохнув чистейшие искры морозного горного воздуха, задержав их на мгновенье в легких, я выдохнул. Снял рюкзак, достал сигареты. Чиркнул спичкой. Она зашипела и погасла, продолжая шипеть. Через секунду стало понятно, что спичка не при чем. Исчезла прорытая траншея. Вниз понеслась сумасшедшая лавина.
-- Скажите, у Вас есть деньги? -- страстно, как нечто накипевшее на душе, выплеснула Усукина.
-- Были.
-- Сколько??
Вижу отрешенное лицо своего врача. Похоже, она с Усукиной в чем-то сильно не согласна; вижу другие лица, оживившиеся как в цирке; вижу, как колеблются в своей позиции некоторые, и, что совершенно невероятно, -- вижу на некоторых лицах зависть; боковым зрением замечаю, как завотделением застыл в нелепой позе с папкой в руке...
Шансов нет. Подобное поведение комиссии больше всего подошло бы к ситуации, когда бы Косуля давал взятку врачу и был при этом пойман. Вдруг так и есть? А может, Усукина, получив деньги, умело играет роль, ивсе будет в порядке в любом случае. Если же нет, то все плохо настолько, насколько может быть плохо вообще.
-- Что молчите! Наверно, тыкву где-нибудь закопал? Ладно. Скажите нам, как Вы относитесь к командным действиям в бизнесе?
-- В каком смысле?
-- А в прямом. Вы же не один... работал. Перечислите, с кем вы работали!
И тут раздался колокольный звон, так хорошо знакомый мне по задержанию.